Аналогичных примеров можно привести немало. Когда был текст, пояснявший рисунки, такие неясности не имели значения, достаточно было лишь взглянуть на изображения, и всё становилось ясным, поэтому нет ничего странного в том, что Тао Юань-мин с удовольствием и интересом рассматривал "Изображения гор и морей". Однако, после того как древние изображения были утрачены и до нас дошёл лишь пояснительный текст, неизбежно приходится бродить в потёмках.
Несмотря на всё сказанное выше, "Книга гор и морей" представляет собой произведение, сохранившее для исследователей больше всего мифологического материала. Многие специально занимались изучением памятника, однако все их исследования были бессистемными, да и сам текст "Книги гор и морей" очень отрывочен. Никто не рассматривал его под углом изучения мифов, а такое исследование было бы весьма важно, оно бы очень помогло в систематизации древнекитайских мифов.
Следует ещё отметить, что "Книга гор и морей" среди прочих древних книг является весьма трудной, в ней временами нелегко объяснить текст, а провести глубокое исследование, естественно, еще труднее. Поэтому работа по исследованию древнего текста и комментированию (особенно это касается части "Книги морей") весьма полезна. В настоящее время существуют два комментария к "Книге гор и морей": "Комментированный текст к "Книге гор и морей"" Би Юаня и "Комментарии и толкования к "Книге гор и морей"" Хао И-сина. Обе эти книги, сохранившие древние комментарии Го Пу, очень неплохи, причём в последней из них встречаются весьма глубокие толкования. До появления двух этих работ уже имелась работа У Жэнь-чэня "Обширные комментарии к "Книге гор и морей"", в которой приводится исключительно богатый материал. К сожалению, она превратилась в библиографическую редкость.
Так как у комментаторов при изучении мифов не было своей определённой точки зрения (в те времена, разумеется, ещё не знали самого термина "миф"), поэтому всем им присущ один общий недостаток: они не избежали стремления всё необычное, сказочное сделать возможным и реальным. Например, в "Хайвай бэй цзине" сказано: "Приближённый Гун-гуна сказал, что Сяв Лю [имел] девять голов" Совершенно ясно, что речь идет о девятиглавом чудовище. Би Юань же стремится истолковать это следующим образом: "По-видимому, выражение "девять голов" означает девять человек", т.е. создаёт исторически правдоподобное явление.
Или ещё в "Хайнэй цзине" сказано: "Имелось дерево с синими листьями, с коричневым стволом. Оно цвело чёрными цветами, приносило жёлтые плоды и называлось цзяньму. Тай хао юань го, то, что сделал Хуан-ди". К словам "Тай хао юань го" есть комментарий Го Пу: "Имеет смысл: "Фу Си проходил под ним"". Хао Итсин даёт следующее толкование: "Сказано: "Фу-си, родился в Чэнцзи, отойдя недалеко, он без труда прошёл мимо него"". Оба эти толкования не разъясняют смысла выражения "юань го". Основываясь на нашем исследовании, мы считаем, что "го" имеет более широкий смысл, а всё выражение означает: "По цзяньму поднимались на небо и спускались на землю" (гл. II, разд. 4, где говорится о небесных лестницах). Подобное объяснение правильнее двух упомянутых выше. Мною приведены эти два примера лишь для того, чтобы объяснить следующее: глубокое и детальное изучение этой книги, проведённое на базе научного исследования, представляется необходимым.
4. Эволюция и развитие мифов. Мифы и суеверия. Миф и легенда. Миф и сказание о бессмертных. Зачем нужно изучать мифы?
Многочисленные народности, населявшие территорию древнего Китая, находились в тесном соприкосновении друг с другом, мифы этих народностей постоянно контаминировали друг с другом, изменялись и подверглись значительному смешению. Древние мифы записывались уже в течение весьма продолжительного времени - начиная с эпохи Восточного Чжоу до периодов Вэй, Цзинь и Шести династий, что составляет более тысячи лет. Нечего и говорить, что время, равно как и те, кто записывал мифы, накладывали на них свою печать. Поэтому исследовать и реконструировать по отдельным осколкам древние китайские мифы и воссоздать их прежний облик действительно весьма трудно. Кроме того, сами мифы всё время изменялись и развивались. Это хорошо видно на примере эволюции мифа о Си-ван-му. Си-ван-му, судя по описаниям в "Книге гор и морей", первоначально была жестоким духом "с хвостом барса, зубами тигра и всклокоченными волосами", насылавшим болезни и ведавшим наказаниями. Три синие птицы приносили ей пищу. В "Жизнеописании государя Му" рассказывается о том, как чжоуский Му-ван, восседая на колеснице, запряжённой восемью прекраснейшими скакунами, отправился в горы Янь-шань повидать Си-ван-му, с которой он там сочинял стихи и пел песни. По-видимому, Си-ван-му в то время была царицей в человеческом облике. В более поздней работе Хуайнань-цзы говорится: "Стрелок И попросил у Си-ван-му лекарство бессмертия", и Си-ван-му вдруг превратилась из злого духа в доброго. В "Истории о ханьском У-ди", приписываемых Бань Гу, Си-ван-му приобретает иное значение - она превращается в "ван-му" (царицу-мать) Запада. Здесь мы имеем лишь некоторое упрощение имени, что же касается трёх птиц, то их описание не подверглось каким-либо изменениям. В несколько более позднем сочинении Ханьунэй чжуань, которое также приписывается Бань Гу, образ Си-ван-му ещё более приукрашен - она изображается в виде прекрасной женщины "тридцати с лишним лет", "красотой покорявшей мир", а три синие птицы, которые раньше приносили ей пищу, превратились в весёлых и красивых служанок. Разница между образами Си-ван-му "с хвостом барса, зубами тигра и всклокоченными волосами", жившей в горной пещере, и ван-му - царицей - такая же, как между небом и землёй!
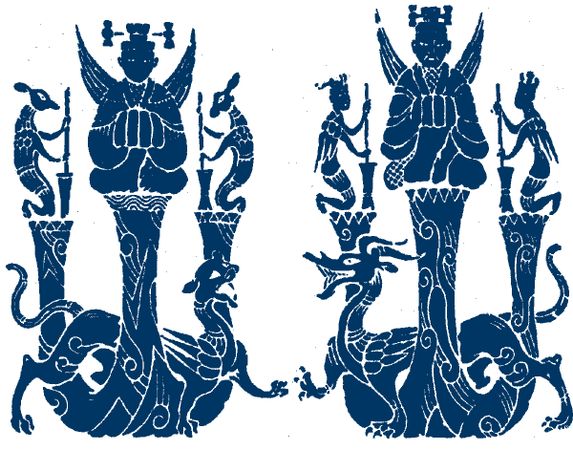
Подобные изменения являлись следствием намеренного исправления и приукрашивания со стороны литераторов и не могут рассматриваться как результат естественного развития и эволюции мифов.
Однако не следует пренебрегать тем влиянием, которое оказывали - эти исправления и приукрашивания на мифы. Каждый из мифов, претерпевший подобные исправления, в свою очередь превращался в источник новых народных мифов. Например, Си-ван-му в народном предании - это не злой дух с "хвостом барса и зубами тигра", а прекрасная хозяйка Запада. В "Книге гор и морей" говорится только о Си-ван-му, а в "Книге о чудесном а необычайном" появляется Дун-ван-гун, не кто иной, как супруг одинокой Си-ван-му. Первоначально я считал, что это всего-навсего лишь выдумка литераторов, и не придавал этому какого-либо значения. Однако недавно я прочитал о Пике духа женщины из народных преданий местности Сянься, собранных Тянь Хай-янем, где Дун-ван-гун, вопреки моим представлениям, выступает в роли духа супруга Си-ван-му. Это, невольно удивив, заставило меня задуматься: был ли Дун-ван-гун первоначально создав литераторами, а затем уже проник в фольклор или его образ возник на основе уже бытовавших в народе устных преданий? Вопрос заслуживает изучения. Исследовательская работа по мифологии не может быть успешной без детального и тщательного изучения эволюции мифов.
При работе над мифами следует ещё обратить большое внимание на то, как из мифов выделить суеверия.
Чжоу Ян говорит: "Безусловно, мифы и суеверия первоначально отражали определённые примитивные представления древних людей о мире, отражали их верования в сверхъестественные силы. Однако значение мифов и суеверий различно. Суеверия, которые не имеют отношения к сверхъестественным силам, следует; просто отбросить; многие же мифы часто носили активный характер по отношению к окружающему миру и нередко были подлинно народны, а суеверия, пассивные по своей природе, нередко отражали интересы господствующих классов. Это различие между мифами и суевериями можно очень рельефно проследить по их отношению к судьбе.
Мифы часто выражали нежелание человека покориться судьбе, а суеверия, напротив, проповедовали фатализм, возмездие, заставляя людей верить в то, что всё заранее предопределено и самое лучшее - склонить голову перед судьбой.