
- Полагаясь на ваше превосходительство, - сказал Петр, - смеем просить воздействовать на девицу Шишкину, по усмотрению неблаговидности.
- Неблаговидности? м-м-м, - помедлил Алексей Давыдович. - Которая… неблаговидность… чего? Что неблаговидность, а?
- Опасность для почетных горожан… Нежелательность прожития в городе… Соблазн, - нащупывал осторожно Петр.
- М-м-м… Опасность? Соблазн? - не понимал и раздражался его превосходительство. - Как же вы говорите - соблазн, если батюшка ваш желает законного брака?
- Разор, ваше превосходительство!..
- Однако, закон! - слегка прикрикнул Алексей Давыдович. - К тому же девица, как вы называете… что девица, а? Что она?
Его превосходительство постучал ноготками по табакерке.
- Церковное дело, совершенно церковное. Не усматриваю возможным.
Он совсем было дернулся, чтобы откланяться и кончить аудиенцию, но повел носом из стороны в сторону и с легкостью перешел на другой предмет:
- Вы, значит, совместно с батюшкой по соляному делу? Так? Я все собираюсь на Елтон, ознакомиться… м-м… привести в порядок… Ведь вы на Елтоне? Знаю, знаю. М-ммм… мне как-то докладывали по управлению, что купцы не хотят торговать одного участочка… на Елтоне… по бездоходности, якобы, по невыгодности… не помню, сейчас, какой участочек…
Он еще раз протянул табакерку, пожелал узнать - "не имеют ли привычки?"
- и, уже совсем порхая мыслью, между прочим, осведомился:
- Так не найдете ли вы в том интереса взять этот участочек?
- Ваше превосходительство! - тяжко дыхнув, сказал Петр. - Мы сторгуем, хоть теперь.
- Вам, может, придется урезонить батюшку, в отношении… м-м… участочка, - озабоченно спросил Алексей Давыдович. - Так в вашем деле с этой… м… м… девицей…
Он очень продолжительно помедлил и, придя к окончательной ясности, вельможно объявил:
- В случае нарушения порядка, рассчитывайте на закон… М-м… нынче, кажется, превосходный день?..
День был, правда, чудесный. Зелень, цветочные клумбы, мостики и каменные флигеля были залиты солнцем, все кругом сияло, все было таким странным и таким чуждым, что братья, не сговариваясь, весь парк, до ворот, прошли на цыпочках.
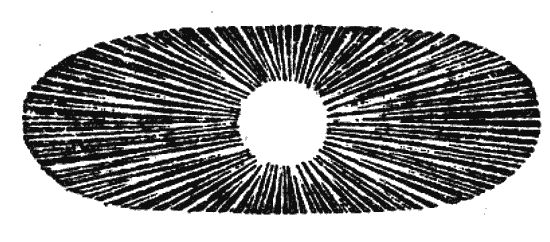

Пятая глава
Послеуспенские ночи, как всегда, были черны. Звездная россыпь вздрагивала в черноте неба. На отмелях неотделимой от неба, такой же черной Волги, точно одинокие угли тлели костры.
Миллионная тяжело спала - на замках, на засовах. Кое-где мурзились спущенные с цепей дворняжки, лошади переступали с ноги на ногу в стойлах, вдруг оползал в амбаре кусок соли, падал, и тогда с минуту держался шорох и тихий треск катившейся соляной крошки.
С Волги притекал сонный окрик вахты, плыл наверх, в город, и там сливался с деревянным бормотаньем сторожевых колотушек.
Петру не спалось. Мирона Лукича стерегли крепко, за домом глядел не один глаз, не два. Со двора, у калитки, подремывал сторож, на улице барабанил в колотушку караульщик, собаки, не кормленные с утра, злобно ждали рассвета, Васька, по обычаю, ночевал у порога хозяйской комнаты. Все было прочно налажено. Но покой не приходил в дом.
Павел сквозь сон застонал, сразу очнулся, вскочил, уставился на брата:
- Никак собаки брешут?
- Слышу.
- Эх, брат, - сказал Павел, протерев глаза, - чего мне приснилось! Будто суббота, и я рассчитываюсь с мужиками. Полез в карман, в шубу, там наместо кошеля чего-то мохнатое. Вынул - кот. Бросил его наземь, он сжался, того гляди - вцепится. А мужики смеются. Инда в пот ударило.
- Нехорошо, - решил Петр. - Пойти взглянуть.
Он пробрался домом наощупь, захватил по пути шубу, вышел на крыльцо. Собаки подбежали к нему, усердно работая хвостами, все стихло, на дворе казалось чуть светлее, чем в горницах, от земли веяло влагой. Неподалеку, у монахинь, нежданно ударили в колокол к полуношнице. На берегу раздался протяжный крик.
Петр укутался в шубу, быстро пошел к калитке, к сторожу, спросил:
- Спишь?
Сторож не отозвался.
Петр толкнул его.
- Чего это? - сказал сторож.
- Уснул?
- Не-е, зачем спать! Караулю.
- С берега словно кто на помощь звал, слышал?
- Зря кричат, тоже караульщики! - возразил сторож. - Караулить надо знать. Будешь подшумливать, вор-то побоится. А сиди тише, ни шкни, он и придет. Тут ты его цап-царап! И бей вволю… А кричать - этак всю жись карауль, никого не пымашь.
Петр посмотрел в небо, произнес тихо:
- Такой ночью, поди, самые злодейства творятся.
- Не-е, - ответил сторож знаючи, - такой ночью ничего не быват. Вишь, как звезды дробятся? Злодей теперь дома сидит.
Он подумал и добавил:
- Я те скажу, когда чего, Петр Мироныч. Ступай, спи.
Петр вернулся в дом, прошел сенями в прихожую. Васька сопел безмятежно. В комнате Мирона Лукича стояла немота.
Петр тишком поднялся к себе наверх. Брат уже спал. Петр лег и укрылся с головой, чтобы согреться…
Мирон Лукич прислушивался к каждому звуку, как птица. Он различал вздохи половиц и дверей, когда ходил сын, слышал потрескиванье свечки, слышал еще что-то, происходившее за пределами внятных шопотов и шелестений - какой-то внутренний говорок безмолвных вещей. Он ухмылялся - вытянув худую шею, вытаращив глаза - ухмылялся от счастья, что слух его был по-птичьи тонок. Что, если бы сам он сделался птицей? Его давно не было бы в этой клетке, никакая стража не уберегла бы его, он посмеялся бы над своими соглядатаями, пожалуй, колоти тогда в колотушки, шастай дозорами из двери в дверь!
Надоел, опротивел, осточертел Мирону Лукичу весь дом, со всеми домочадцами, со всем добром, со всею рухлядью. Он гнал всех в три шеи, только бы не вертелись на глазах, не лезли бы с отчетами, не совались бы в его угол.
- Рыбник наказал узнать, - орал Васька, - не желаете ли, Мирон Лукич; нынче подлещиков?
- А мне хоть баклешек, хоть чехонь, - отворачивался Мирон Лукич, - пошел вон, дурак!
Он ничего не хотел знать. Он ждал своего дня, своего часа, и вот, наконец, последней секунды, которая, с мгновенья на мгновенье, должна была пробить. Он был готов. Дело стояло не за ним.
Он сидел, объятый безмолвием, сухой, напряженные, с растопыренными локтями, словно собравшись выпрыгнуть вон из кресла. Он слушал. Все другие чувства его только помогали слуху или совсем замерли. Если бы возникла у Мирона Лукича в эту минуту какая-нибудь боль, он не заметил бы ее. Рот его приоткрылся, капельки пота проступили над седыми бровями, пальцы изредка вздрагивали и осторожно перебегали с места на место.
И вот руки легли на шины высоких колес. Кресло двинулось. Ход был беззвучен, колеса - хорошо смазаны, пол устлан ковром. Медленно кресло подкатилось к окну. Десятый раз Мирон Лукич вынул из жилета часы.
Но он не успел открыть их.
В ставню тихо стукнули раз, другой.
Мирон Лукич быстро поднял голову. Взгляд его уставился на кончик железного болта, торчавший из щели в оконном косяке. Болт дрогнул и уполз в щель.
Мирон Лукич стремительно потушил свечку, нащупал на окне крючок, легонько выпихнул его из петли и потянул раму. Она подалась. С улицы, за ставнею, чуть слышно звякнул коленцем болт.
- Чш-ш! - прошипел Мирон Лукич.
Ставня бесшумно раскрылась. Какие-то руки - холодные, корявые - прикоснулись к его пальцам.
- Отодвиньтеся, - шепнули с улицы.
Потом Мирон Лукич почувствовал, как что-то огромное тяжело поднялось из темноты, взгромоздилось на подоконник и внезапно ухнуло в комнату, толкнув кресло.
- Чш-ш! Ти-ше! - в ужасе махнул руками Мирон Лукич.
Но в тот же миг чужая рука, скользнув по его плечу, пролезла между спиной и креслом, и в самое лицо Мирону Лукичу пахнуло шопотом:
- Цепляйтеся за шей! За шей меня беритя, крепше!
Мирон Лукич обнял волосатую, стриженую под горшок, голову и вдруг, с неожиданной легкостью, отделился от кресла.
- Пущайтя, пущайтя! - услышал он снова, и тотчас другие руки подхватили его за окном и окунули в ночной холод, как в воду.
Человек, держа Мирона Лукича в объятьях, осторожно бежал в темноте. Позади что-то стукнуло, собаки взялись лаять, из-за ворот выплеснулся старческий голосок:
- По-сма-триваю!