Гиляровский и Венечка Ерофеев
Однажды писатель Гиляровский возвращался из ресторана, вкусно отрыгивая каким-то деликатесом московской кухни, и вдруг ему показалось, что не мешало бы пропустить завершающую рюмку-другую водочки с перчиком или лимончиком, и тогда будет в самый раз усесться за описание своего сегодняшнего ужина в главном труде жизни - книге "Москва и москвичи". Однако человеком он был общительным и выпивать в одиночку не любил. Ему нужен был компаньон, желательно, собрат по профессии.

И тут ему попался на глаза Венечка Ерофеев, вечно нуждающийся в деньгах и опохмелке, притом, чем меньше было первого, тем больше хотелось второго.
- Ага, - обрадовался Венечка неожиданной встрече, - он-то мне и нужен! Денег, конечно, не даст, но выпить с ним за компанию - такое может и проканать.
А Гиляровский рад стараться.
- Милости прошу, - говорит, - но есть у меня условие. Я ставлю бутылку, но и ты тоже ставь, потому как сам не пью на халяву, и другим не даю. Иначе неловко получается.
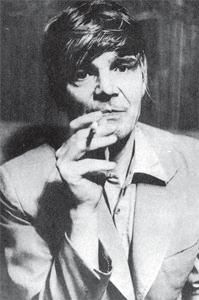
Задумался Венечка. Да если бы у него была бутылка, разве стал бы он искать напарника? Но ничего не поделаешь, нужно выкручиваться - не ложиться же спать на трезвую голову! И вдруг сумасшедшая мысль пронеслась под Венечкиной кепкой: дома-то у него стоит почти целая бутылка подсолнечного масла - глядишь, Гиляровский не разглядит что к чему, а если начать с водки, то, может, и до масла дело не дойдёт. Классик-то уже хорош.
Выпьет масла - может, и не разберётся что к чему, пока в туалет не начнёт бегать.
Пришли они в Венечкину каморку, уселись за стол и выставили каждый по бутылке. Венечка пьёт осторожно, только водку и изумлённо поглядывает, как классик следом за рюмкой водки выдувает рюмку масла и при этом нахваливает тонкий и необычный вкус коктейля.
- Керосина ему, что ли, подбавить или одеколона дешёвого? - размышляет Венечка. - А может, в эдаком питье есть какая-то потаённая правда жизни? Чем абсурдней смесь, тем шире глаза открываются на действительность!
- Ай да рецептура у этого босяка! - причмокивает Гиляровский. - Сразу видно, что он настоящий русский писатель - толк в напитках знает! Фантазии ему не занимать…

Чем закончилось застолье, в принципе, не важно. Главное, что каждый из собутыльников вынес для себя что-то интересное из общения, и это дало новые краски и новые сюжеты в их бессмертных литературных трудах.
Максим Горький и Сергей Михалков
У великого пролетарского писателя Максима Горького глаза были всегда на мокром месте. Плакал он по поводу и без повода. Вероятней всего, у него была какая-то глазная болезнь, но он в этом не признавался и обследоваться не желал. А пользовался он своей слезливостью очень искусно. Всем казалось, что писатель принимает близко к сердцу чаяния простого народа, а он этого и не отрицал. Даже было принято решение отправить его лечиться в Италию на остров Капри подальше от простого народа, чтобы тот не допекал его своими страданиями и муками.
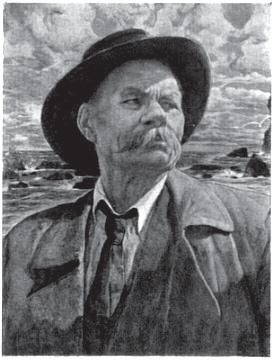
Однажды приехала к нему с челобитной делегация пролетарских писателей во главе с детским поэтом Сергеем Михалковым. Неохотно принял их Алексей Максимович, тем более после сытного обеда настроение у него было благодушное и плакать вовсе не хотелось. А нужно было, чтобы не нарушать имидж. Но поглядел он в их глаза, в которых была написана собачья преданность, и, сам того не желая, искренне прослезился.
- С чем пожаловали, братцы? - спрашивает, а сам платочком утирается и обвислые усы пытается торчком поставить - ведь раньше они были пышные и молодецкие, но от слёз совсем поредели и опустились.
- Благослови нас, батюшка, на написание нового государственного гимна, - молвит Михалков, - а то правительство требует от нас, и мы не знаем, с чего начать.
- А сам-то ты кто таков, что за такой непосильный простому смертному труд взяться хочешь?
- Поэт я детский, стишки пишу для советских деток. Вот про дядю Стёпу милиционера написал…
- Для советских деток? - переспросил Горький и залился горькими слезами. - Жалко мне их, горемычных…
Поплакал он вволю, а писатели стоят молча, с ноги на ногу переминаются, боятся оторвать человека от такого благородного занятия. Только по сторонам глазами зыркают - чем бы поживиться, пока хозяин не видит.
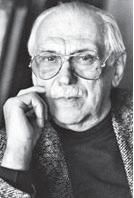
- А что ты ещё можешь? - спрашивает Горький.
- Могу с вождями дружбу водить. С теми, что были, что есть и что будут.
- Врёшь поди? - усомнился Алексей Максимович. - Это же такая сложная дипломатия - для всех хорошим быть и со всем, что они скажут, соглашаться! Даже у меня, великого пролетарского писателя, такое не всегда получается.
- А я могу, - сказал Михалков, - только дайте наводку, как этот злосчастный гимн написать, но так, чтобы при случае его легко можно было переделывать в русле меняющейся политики партии и правительства…
- Это тебе, брат, не про милиционеров сочинять, - задумался Горький, - но так и быть, подскажу. Возьми-ка ты наш старый гимн "Боже, царя храни…" и поменяй одно лишь словечко "царя" на "Владимира Ильича". Ну, и подрифмуй, конечно. Такое прокатит…
- Не-е, не прокатит. Во-первых, сейчас директива есть, что бога нет, а во-вторых, и Владимира Ильича тоже нет - умер наш благодетель ещё в 1924 году.
- Да ты что?! - изумился Горький. - А я и не знал… Твердили же, что он и его дело бессмертые! - И залился новыми слёзами. - Видно, и здесь наврали…
Снова подождали писатели, пока тот проплачется.
- Сейчас Сталин в стране рулит, - вздохнул Михалков.
- Его и зарифмуй, - легкомысленно отмахнулся Горький, - какая тебе разница, кого рифмовать? Придут за ним Маленков, Хрущев, Брежнев - тебе не один хрен?
- Понял, - кивнул головой Михалков и скомандовал остальным писателям: - Всё, пошли отсюда, братва, аудиенция закончена.

- Ну, куда же вы? - захныкал Горький. - Небось, подарки мне от советского правительства привезли, а отдавать не хотите. Не позволю заныкать, я вас насквозь вижу!
Но писатели уже вышли из комнаты, прихватив тайком кое-что из хозяйского. Последним выходил Михалков, который всё же обернулся и язвительно заметил:
- А бога всё равно нет, Алексей Максимович. Плачь не плачь, ну нет его, и амба! А гимн на все века мы напишем и без вашей помощи, уж не обессудьте…
Пабло Неруда и Назым Хикмет
Одно время в СССР очень любили привечать иностранных поэтов, но не более, чем по одному из каждой страны. Такова, наверное, была разнарядка сверху. Притом иностранный поэт обязательно должен был носить титул "прогрессивного", и было бы совсем неплохо, если бы он за свои взгляды сидел какое-то время в тамошних застенках. К поэтам из наших национальных окраин, писавшим свои стихи не на русском языке, мы тоже относились неплохо, однако почести им были пожиже, потому что они не сидели за политику, а значит, не так высоко котировались на пропагандистском рынке, особенно для зарубежной общественности.

Большой популярностью пользовались некогда чилиец Пабло Неруда и турецкий поэт Назым Хикмет. Вряд ли у себя дома они были широко известны и любимы местной читающей публикой, но в СССР их обязан был знать каждый пионер, и их портреты нередко можно было встретить в школьных кабинетах литературы и даже в райкомах партии среди советских государственных и партийных деятелей.
На какие шиши они существовали у себя дома, никому не известно, но в СССР они жили на широкую ногу, отдыхали в партийных санаториях, питались только в ресторанах и при этом не уставали твердить, что и дня прожить не могут без своей горячо любимой покинутой родины. Так требовалось для пущего имиджа.