- Признайся, тебя испугала та пара, направлявшаяся к нам? - В глазах Лели сверкнули так хорошо знакомые ему молнии. - Да, ты струсил! А вот мне нечего скрываться и нет необходимости ни от кого прятаться.
- Ах, милая, не начинай всё сначала! - попробовал он остановить её, но было уже поздно.
Она подошла к нему вплотную и, взяв за лацканы сюртука, потянула их на себя, сделав ему больно.
- Тебе неприятно, тебе больно? - отпустила она Фёдора Ивановича, даже слегка оттолкнув от себя. - А как же я? Ты подумал о том, что я обречена всю жизнь оставаться в этом жалком и фальшивом положении, в которое я поставила себя?
Тютчев присел на стул и охватил руками голову.
- Но что можно придумать, как выйти из этого замкнутого круга? - простонал он. - Развод? Но мы уже говорили, что он невозможен. К тому ж разве ты и так не моя?
Слёзы вдруг брызнули из её глаз, и она, опустившись у его ног, произнесла:
- Да, твоя и моя плоть - они едины. Вот здесь - дай твою руку. Ты чувствуешь, это бьётся плод нашей любви. Ведь в том и состоит истинный брак, благословенный самим Господом не в церкви, а на Небесах, чтобы так любить друг друга, как я люблю тебя, а ты - меня. И чтобы быть одним существом. А развод - ты прав, - он нам ничего не даст. Даже самая смерть Эрнестины Фёдоровны, если бы она вдруг приключилась, ничего бы не изменила в нашем положении.
При этих словах Фёдор Иванович вздрогнул и инстинктивно отстранил её от себя.
- Прости, но то, что ты теперь сказала... - не смог он даже закончить фразу, поскольку ощутил в горле комок слёз, который перехватил его дыхание.
- Нет, милый, ты не так меня понял! - снова жарко проговорила она. - Я не хочу, я не желаю твоей Эрнестине Фёдоровне не только смерти, но и иного какого ни было несчастья. - Потому не желаю этого, что я тебе более жена, чем она. Больше и первой твоей жены. Поскольку никто из них тебя никогда не любил и не ценил так, как я! Только одна я тебя люблю и понимаю...
А там, в Петербурге, на другом конце Европы, томилась и страдала другая женщина, которая также с не меньшим правом считала себя единственной, кто в состоянии всю себя отдать ему, всё ещё ею любимому.
И что уж совсем со стороны могло показаться необычным и ничем вроде не объяснимым, - она, Эрнестина Фёдоровна, ни в коей мере не желала несчастья своей юной сопернице.
"Нет, я не должна и не имею никакого права её винить, - точно на исповеди, говорила себе бывшая баронесса Пфеффель. - А разве я сама когда-то не поступила так же, как эта юная особа? У него, Фёдора, была жена, и он её любил и обожал. Но и во мне возникло то испепеляющее всё внутри меня самой великое и светлое чувство, которое заставило меня обо всём забыть. Страшно это произнести вслух, но наш союз был в итоге оплачен двумя жизнями - его жены и моего мужа, чего мы, разумеется, ничуть не хотели. Нужны ли теперь новые жертвы? Надо уметь всё понять и простить. Для Фёдора жизнь обретает смысл лишь в любви. Любовь для него желаннее счастья. А разве для меня самой не так, разве я не страдаю только из-за того, что продолжаю безумно его любить? Но как долго во мне будет жить эта любовь, не иссякнет и не прервётся ли она, чтобы никогда более не возвратиться ко мне?.."
И ещё один человек продолжал говорить с собою. Тоже предельно искренне. И так, как только он один и мог говорить себе - беспощадно и откровенно, в то же время ничего не умея в себе изменить:
О, вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Книга вторая
ВЕЩАЯ ДУША
1
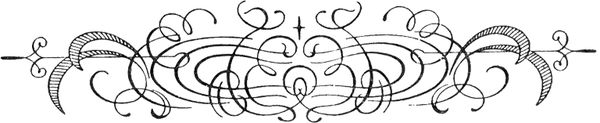
 последний день апреля 1863 года на Николаевском вокзале железной дороги Тютчев провожал Эрнестину Фёдоровну и Мари. Как обычно, в эту пору жена и дочь уезжали на лето из Петербурга в село Овстуг. Каждый год, едва зима переваливала через Рождество, в доме Тютчевых начиналась размеренная и деловитая подготовка к отъезду. Размеренной и деловитой она была потому, что все заботы брала в свои руки Эрнестина Фёдоровна.
последний день апреля 1863 года на Николаевском вокзале железной дороги Тютчев провожал Эрнестину Фёдоровну и Мари. Как обычно, в эту пору жена и дочь уезжали на лето из Петербурга в село Овстуг. Каждый год, едва зима переваливала через Рождество, в доме Тютчевых начиналась размеренная и деловитая подготовка к отъезду. Размеренной и деловитой она была потому, что все заботы брала в свои руки Эрнестина Фёдоровна.
К середине зимы из Овстуга от управляющего имением Василия Кузьмича Стрелкова уже приходили все денежные переводы, или, как они тогда назывались, посылки - доходы от проданного урожая и продукции сахарного завода. И собирались письменные предложения Василия Кузьмича по поводу того, что надобно будет предпринять с весны в видах на текущий и последующие годы.
Нынешней зимой управляющий предложил коренным образом перестроить сахарный завод и под Рождество сам заявился в Петербург с подробнейшим реестром дел, которые надлежало осуществить и для расширения цехов, и для приобретения нового, более мощного оборудования.
Приехал Василий Кузьмич не один, а с механиком Фёдором Карловичем Боддеманом. Механик этот числился главным на сахарном заводе, и у него под началом находилось трое рабочих. Все они значились мастеровыми Сергея Ивановича Мальцова, генерала и крупного промышленника, державшего в своих руках соседнюю с Овстугом фабричную Дятьковско-Людиновскую округу. Мальцов арендовал овстугский завод, и мысль сделать его более производительным, конечно, исходила от него.
Мальцов надеялся, что Тютчевы непременно проявят интерес к предлагавшимся новациям: как-никак, а доходы с завода составляли существенную добавку к жалованью Фёдора Ивановича. Боддеман так и повёл дело, чтобы выгоды перестройки перво-наперво поведать самому хозяину, действительному статскому советнику Тютчеву. Однако первая же реплика Фёдора Ивановича повергла немца-механика в недоумение.
- Простите, - развёл руками и без тени улыбки, вполне серьёзно сказал Тютчев, - но попытаться объяснить мне преимущества одного парового котла перед другим всё равно что пробовать высекать искру из куска мыла.
Фёдор Иванович быстро удалился из своего кабинета, окликая на ходу камердинера Эммануила и отдавая ему приказание одеваться, чтобы ехать в город.
Управляющий Василий Кузьмич, знавший хорошо совершеннейшую некомпетентность Фёдора Ивановича в хозяйственных делах и его неподражаемое неумение вести даже самые простейшие разговоры на деревенские темы, направился с докладом к Эрнестине Фёдоровне. Жена Тютчева тотчас во всём разобралась, пригласила для разговора Мари, и тут же были составлены все необходимые для дела бумаги.
И вот теперь, весной, значительно ранее обычных сроков, мать и дочь заспешили в Овстуг.
На платформе вокзала Тютчев казался рассеянным. Он то невпопад приподнимал краешек шляпы, раскланиваясь с проходившими мимо и так же провожавшими кого-то в Москву знакомыми, то намеренно отворачивал лицо, когда кто-то пытался с ним заговорить.
- Пожалуй, тебе, Фёдор, следует ехать домой и не ждать третьего звонка, - предложила Эрнестина Фёдоровна.
- Ты, Нести, права: в отличие от театра, где третий звонок означает начало, здесь последний удар колокола - конец, - по своему обыкновению каламбуром ответил Тютчев.
- Для нас с мама третий звонок - начало, - не согласилась с отцом Мари. Начало новой, настоящей жизни после мерзкого зимнего прозябания. Неужели и правда впереди - солнце, тепло, милый лес и Десна?
- Ах, какая это несправедливость: я вынужден оставаться здесь, когда вы уезжаете, туда! - с лёгким вздохом произнёс Тютчев.
Уголки губ Мари чуть дрогнули в усмешке:
- Чтобы чувствовать себя вполне счастливым в любом путешествии, надобно всегда оставлять дома самого себя.
- Натурально, не брать с собой в дорогу собственный сплин, хандру и тревоги, как заблаговременно решают оставлять дома что-то из гардероба, из наскучивших вещей, без которых можно обойтись, - тут же отозвался Фёдор Иванович.
- Однако, вам, папа, это не всегда удаётся. Прошедшим летом вы три месяца провели за границей, и самыми сильными впечатлениями, если судить по вашим письмам к нам в Овстуг, были встречи и бесконечные беседы в Лозанне, Висбадене и Веймаре с теми русскими, с которыми вы каждый день встречаетесь и в Петербурге.
- Увы, дочь моя, для человека в его долгом путешествии, которое называется жизнью, привычное общество и знакомые лица как спасательный круг, - попытался улыбнуться Тютчев. - И вам в Овстуг я подброшу этот круг в виде милейшего Полонского.
- Вы чаще пишите, папа, - сменила тон Мари. - Ваши письма всегда доставляют мне великую радость. И не забывайте делать ножные ванны. Что же касается хозяйственных дел, положитесь на мама и меня. Я сама должным образом сверю все счета, которые мне покажет Василий Кузьмич.
Эрнестина Фёдоровна, отдав какое-то распоряжение горничной, подошла к мужу и дочери.
- С некоторых пор, ты, Фёдор, знаешь, я не руковожу твоими личными делами, точнее, не вмешиваюсь в твою частную жизнь. - Эрнестина Фёдоровна приподняла дорожную вуаль, - Однако в одном согласна с Мари и настоятельно прошу тебя: возьми строгие меры относительно болезни ног. Я велела Эммануилу каждый вечер готовить тебе ножные ванны. А теперь прощай, Фёдор, пора...
Лицо Эрнестины Фёдоровны с изумительными, постоянно восхищавшими всех знавших её агатово-тёмными глазами было спокойно. Но это спокойствие и слова, которые она произнесла, неприятно подействовали на Тютчева.