К НЕЙ
Никогда и решительно никакой другой темы не было. "Её" мы никакую не знали, потому что ни с одной барышнею не были знакомы. Он, полагаясь на свое великолепное пальто, еще позволял себе идти по тому тротуару, по которому гимназистки шли, высыпая из Мариинской гимназии (после уроков). У меня же пальто было мешком и отвратительное, из дешевенького вялого сукна, которое "мякло" на фигуре. К тому же я был рыжий и красный (цвет лица). Посему он имел вид господства надо мною, в смысле что "понимает" и "знает", "как" и "что". Даже - возможность. Я же жил чистой иллюзией.
У меня был только друг Кропотов, подписывающийся под записками: Kropotini italo, и эти "издали" Руне и Лахтин.
Мы спорили. У меня было ухо, у него глаз. Он утверждал, насмешливо, что я пишу вовсе не стихи, потому что "без рифмы"; напротив - мне казалось, что скорее он, не я, пишет прозу, п.ч., хотя у него оканчивалось созвучиями: "коня", "меня", "друг", "вдруг", но самые строки были вовсе без звука, без этих темпов и периодичности, которые волновали мой слух, и впоследствии мы узнали, что это зовется стихосложением. Напр., у меня:
Ароматом утро дышит
Ветерок чуть-чуть колышет…
Но если "дышит" и "колышет" не выходило, то я ставил смело и другое слово, твердя, что это все-таки "стих", п.ч. есть "гармония" (чередующиеся ударения).
У него…
У него были просто строчки, некрасивые, по мне - дурацкие, "совершенная проза" но зато "созвучие" последних слов, этих концов строк, что мне казалось - ничто. Это были и не теперешние белые стихи: это была просто буквальная проза, без звона, без мелодии, без певучести, и только почему-то с "рифмами", на которых он помешался.
Так мы жили.
Я сохранил его письма. Именно, едва перейдя в IV класс, я был взят братом Колею в Нижний, должно быть, "быстро развился там" (Нижегородская гимназия была несравнима с Симбирской), "вознесся умом" и написал на "старую родину" (по учению) несколько высокомерных писем, на которые он отвечал мне так:
[сюда поместить непременно, непременно, непременно!!! - письма Баудера. См. Румянцевский музей] <позднейшая приписка>.
* * *
16. I.1916
"Я" есть "я", и это "я" никогда не станет - "ты".
И "ты" есть "ты", и это "ты" никогда не сделается как "я".
Чего же разговаривать. Ступайте вы "направо", я - "налево", или вы "налево", я "направо".
Все люди "не по дороге друг другу". И нечего притворяться.
Всякий идет к своей Судьбе.
Все люди - solo.
* * *
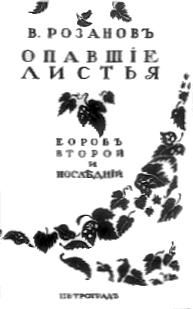
23. I.1916
Так обр. Гоголь вовсе и не был неправ?
(Первооснова русск. действительности), и не в нем дело. Если бы Гоголя благородно восприняло благородное общество: и начало трудиться, "восходить", цивилизовываться, то все было бы спасено. Но ведь произошло совсем не это, и нужно заметить, что в Гоголе было такое, чтобы именно "произошло не это". Он писал вовсе не с "горьким смехом" свою "великую поэму", Он писал ее не как трагедию, трагически, а как комедию, комически. Ему самому было "смешно" на своих Маниловых, Чичиковых и Собакевичей, - смех, "уморушка" чувствуется в каждой строке "М.Д.". Тут Гоголь не обманет, сколько ни хитри. Слезы появляются только в конце, когда Гоголь увидал сам, какую чудовищность он наворотил. "Finis Russorum" ("Конец Руси" (лат.)).
И вот подло ("комически") написанную вещь общество восприняло подло: и в этом заключается все дело. Чернышевские - Ноздревы и Добролюбовы - Собакевичи загоготали во всю глотку: - А, так вот она наша стерва. Бей же ее, бей, да убей.
Явилась эра убивания "верноподданными" своего отечества. До 1-го марта и "нас", до Цусимы.
* * *
23. I.1916
Действие "М.Д." и было это: что подсмотренное кое-где Гоголем, действительно встретившееся ему, действительно мелькнувшее перед его глазом, ГЛАЗОМ, и в чем гениально, бессмысленно и по наитию, он угадал "суть сутей" моральной Сивухи России - через его живопись, образность, через великую схематичность его души - обобщилось и овселенскилось. Дробинки, частицы выросли во всю Русь. "Мертвые души" он не "нашел", а "принес". И вот они "60-ые годы", хохочущая "утробушка", вот мерзавцы Благосветовы и Краевские, которые "поучили бы Чичикова". Вот совершенная копия Собакевича - гениальный в ругательствах Щедрин. Через гений Гоголя у нас именно появилось гениальное в мерзостях. Раньше мерзость была бесталанна и бессильна. К тому же, ее естественно пороли. Теперь она сама стала пороть ("обличительная литература"). Теперь Чичиковы стали не только обирать, но они стали учителями общества.
- Все побежало за Краевским. К Краевскому.
У него был дом на Литейном. "Павел Иванович уже оперился".
И в трубу "Отеч. Записок" дал "Евангелие общественности".
* * *
26. I.1916
Вот ты прошел мимо дерева: смотри, оно уже не то.
Оно приняло от тебя тень кривизны, лукавства, страха. Оно "трясучись" будет расти, как ты растешь. Не вполне - но тенью:
И нельзя дохнуть на дерево и не изменить его.
Дохнуть в цветок - и не исказить его.
И пройти по полю - и не омертвить его.
На этом-то основаны "священные рощи" древности.
В которые никто не входил никогда.
Они были - для народа и страны как хранилища нравственного. Среди виновного - они были невинными. И среди грешного - святыми.
Неужели никто не входил?
В историческое время - никто. Но я думаю, в доисторическое время "Кариатид" и "Данаид"?
Эти-то, именно эти рощи были местом зачатий, и через это древнейшими на земле храмами.
Ибо храмы - конечно возникли из особого места для столь особого, как зачатия.
Это была первая трансцендентность, встретившаяся человеку (зачатие).