АНАЛИЗ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
В монографии "Мысль и язык" (1862) Потебня исследовал "вопрос об отношении мысли к слову" (17). Ученый подчеркивал, что в самой мысли существует "многое, не требующее языка"; "как в жизни лица <отдельного человека>, так и в жизни народа должны быть явления, предшествующие языку и следующие за ним" (51, 52). В результате, язык – это "переход от бессознательного к сознательному" (52–53). Развивая эту логику, Потебня обращался к вопросам психологии, поскольку он был убежден, что "нас действительно преследует необходимость искать причины душевных явлений" (56), и рассматривал чувственные восприятия.
Потебня разграничивал "язык чувства", который связывает с междометиями – "непосредственным обнаружением" чувств, и "язык мысли" – "слова в собственном смысле" (88) и выдвинул положение о "внутренней форме" слова. Ученый подчеркнул: "Нетрудно вывести из разбора слов какого бы ни было языка, что слово собственно выражает не всю мысль, принимаемую за его содержание, а только один ее признак" (97; курсив мой. – М.Л.). Вследствие этого Потебня различал два содержания: одно – "объективное", "ближайшее этимологическое", которое "всегда заключает в себе только один признак", а другое – "субъективное", в котором "признаков может быть множество" (98).
Ученый указывал: "Первое есть знак, символ, заменяющий для нас второе", и призывал "убедиться на опыте", что "произнося в разговоре слово с ясным этимологическим значением, мы обыкновенно не имеем в мысли ничего, кроме этого значения" (8). В качестве одного из примеров Потебня рассмотрел слово "облако", которое означает "для нас только "покрывающее"": облако – облекать (98). Вывод, который делает ученый, сформулирован следующим образом: "Первое содержание слова есть та форма, в которой нашему сознанию представляется содержание мысли. Поэтому, если исключить второе, субъективное, и, как увидим сейчас, единственное содержание, то в слове останется только звук, то есть внешняя форма и этимологическое значение <…>. Внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль" (98). Следовательно, по логике рассуждений ученого, именно "внутренняя форма" слова конкретизирует и уточняет мысль.
Таким образом, в теории "внутренней формы слова" Потебни изучается цепочка: "действительность – мысль (которая организует понимание действительности) – слово (которое формирует мысль)". С точки зрения своих коммуникативных функций, слово двучленно: это, с одной стороны, членораздельный звук (форма) и, с другой стороны, чувственное восприятие (содержание, значение), которое этот звуковой ряд обозначает. Но по сути выводов Потебни, слово трехчленно: 1) членораздельный звук – внешняя форма слова, 2) внутренняя форма и 3) значение (содержание).
Эта структура показана на схеме.
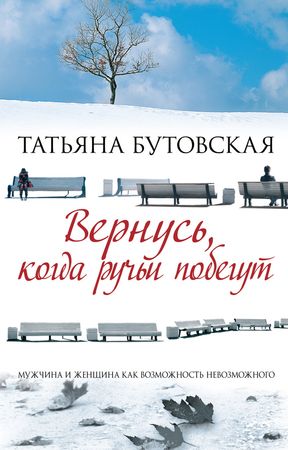
Внешняя форма слова обеспечивает распознавание определенного значения на коммуникативном уровне; внутренняя форма выступает как способ передачи множества значений, и употребление слова в одном из значений зависит от психологического состояния говорящего и адресата.
Художественное слово, по Потебне, носит символический характер. Иллюстрацией этого положения может стать анализ какого-либо произведения, и прежде всего из круга произведений русских символистов, на которых учение о внутренней форме слова оказало значительное влияние.
О Обратимся к стихотворению А.А. Блока "О доблестях, о подвигах, о славе…" (1908) и проведем его анализ. Произведение носит автобиографический характер: оно написано после драматических переживаний, связанных с семейными обстоятельствами (взаимным увлечением А. Белого – друга Блока и его жены Любови Дмитриевны). Однако те традиции российской интеллигенции, которые обозначает поэт в первой строфе, имеют гораздо более широкое значение. Блок создает образ Дома, и только перед лицом (в данном случае скорее фотографией, чем живописным портретом) близкого и дорогого человека, "сияющем" в раме (скорее на столе, чем на стене), есть надежда сохранить свою живую душу, остаться самим собой и забыть о суете, о карьерных соображениях – "О доблестях, о подвигах, о славе".
Вторая строфа начинается с противительного союза "но", и тем самым поэт обозначил катастрофу в человеческих отношениях: возлюбленная (в данном случае жена) покинула дом, отдав "свою судьбу другому", и лирический герой в ответ на этот шаг, разрушивший семью, снимает с руки обручальное кольцо. Кольцо, брошенное "в ночь", становится первым символическим знаком потерянности, дезориентированности, утраты главных и определяющих ценностей. Этот факт поэт подчеркивает интонационно: в строке "И я забыл прекрасное лицо", когда ощущается сознательное волевое действие, – герой заставляет себя забыть любимую.
Для героя начинается новая жизнь, в которой больше нет радости, и дни летят, "крутясь проклятым роем". Но даже в храме герой говорит не со Всевышним, а с любимой, воспринимая происходящее трагически: герой зовет возлюбленную, "как молодостью свою", т. е. понимая, что прошлого не вернуть никогда. Трагическое ощущение ситуации Блок усиливает с помощью ввода противительного союза "но" внутрь строки: "Я звал тебя, но ты не оглянулась, / Я слезы лил, но ты не снизошла".
Безоговорочность решения возлюбленной героя определена портретными (синий плащ) и пейзажными (сырая ночь) деталями. Эти два словосочетания, состоящие из обыденных слов "плащ", "ночь", "синий", "сырая", представлены поэтом дважды – в рядом стоящих строфах, четвертой и пятой, и этот прием можно принять за неудачу в выборе художественных средств.
Однако эти детали могут стать ярким подтверждением положений теории Потебни, указывающим на то, как в обычных словах поэт, в данном случае Блок, создавая образ, в полной мере обнаруживает полисемию каждого их этих слов.
Обратимся к образу, выраженному словосочетанием "синий плащ". Во-первых, любой артефакт в лирике, в наибольшей, по сравнению с другими родами литературы, отрицающей указание на предметность и несовместимой по своей природе с сюжетикой, условен. Блок одевает свою героиню в плащ, а не как-либо иначе именно потому, что плащ – изначально одежда без рукавов и поэтически-условно обозначает закрытость человека, его сосредоточенность на себе, его неспособность, неумение и/или нежелание услышать Другого – пусть даже самого близкого. Во-вторых, Блок задает колористическое решение, указав на синий цвет плаща. Это определяется не только интересами ритма, согласно которому в строку "Ты в синий плащ печально завернулась" можно поставить и "белый" (что вызовет реакцию недоумения), и "красный" (что вызовет удивление), и "желтый" (что вызовет смех), но не только. "Серый" и "черный", которые тоже укладываются в ритм, хорошо, на первый взгляд, могут быть соотнесены со значением слова "печально". Однако Блоку не нужен ни серый цвет – "никакой", ни черный – цвет либо траура, либо элегантности. Только синий цвет указывает на внутреннюю сконцентрированность на определенных проблемах и внешнюю сдержанность.
Первый образ "синий плащ" усиливается вторым – "сырая ночь", и это словосочетание Блок также повторяет дважды. Смысловое гнездо слова "ночь" задает ряд символических значений: нарушение паритета сил добра и зла, конечность индивидуального или общественного бытия, исчерпанность иллюзий и проч. Эпитет "сырая" обращает не только к петербургскому климату, наиболее близкому Блоку, но и к тем психологическим состояниям, которые связаны с ощущениями зыбкости, неопределенности, неясности происходящего и грядущего. "Сырой" – это водная взвесь в воздухе с психологической параллелью потери почвы под ногами и эмоциональной неопределенностью; это неустойчивость погоды как потеря ориентиров в тумане; это физическая ограниченность зрения, которая соотносится с неуверенностью человека в себе, в своих силах, в отчетливости перспектив.
В результате поэт в кульминационных строках "золотого сечения" задает пучок смыслов. Согласно Потебне, именно так рождается художественное слово, возникающее за счет резервов его "внутренней формы".