* * *
Отчеты и письма, которые посольская оказия бралась назавтра рано утром захватить в Москву, Шмелев и Озеров закончили писать поздно вечером.
- Ну все,- Шмелев удовлетворенно потянулся.- Теперь надо размяться. Пройдем, Юра, небольшой кружок...
- Нет, Михаил Михайлович, вы извините, я хочу брату письмо написать. Когда теперь случай представится...
- Ну ладно, пиши, а я пройдусь.
Шмелев надел плащ, шляпу и вышел из отеля.
Широкий сквер, отделявший "Метрополь" от озера, был искусно подсвечен. Невидимые прожекторы выхватывали из темноты лужайки, кусты, клумбы, листву деревьев. Кое-где среди цветов мелькали красные, желтые, синие фонарики. Громадная стрелка светящихся часов-клумбы бесшумно отсчитывала секунды. Сквозь листву мерцали огни летнего ресторана. Звучала музыка.
Шмелев вышел на набережную. Гигантской золотой подковой окаймляли ее гирлянды лампочек, на противоположной стороне озера сверкали огни ресторанов и казино, слева над крышами вспыхивали и гасли красные, белые, зеленые буквы реклам: "Шоколад Нестле", "Патек Филип", "Лонжин", "Омега", "Летайте самолетами Сюисэр"...
Огни, опрокинувшись в озеро, ритмично исполняли там свою разноцветную, беспрерывную пляску.
Шмелев присел на скамью.
Запахи цветов, листвы, воды, остывающего асфальта, духов повисли в безветренном воздухе.
А потом задул ветер, словно желая напомнить о себе. И запахи сразу же смешались - улетел куда-то тревожный аромат духов, перестали пахнуть цветы и деревья, их сменили свежие, холодные запахи гор.
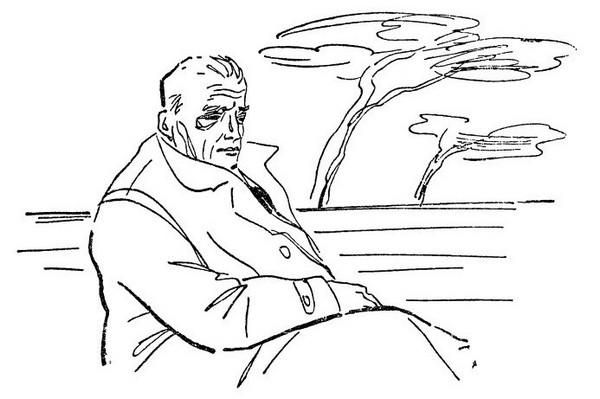
...Впервые горы Шмелев увидел, когда ему исполнилось девятнадцать лет, Это было в Крыму, после взятия Перекопа. Раньше отряды, в которых он воевал, вели степные бои. Вдруг сразу и море и горы.
В выцветшей, порванной гимнастерке, в старой кубанке, держа левой рукой правую, обвязанную грязным окровавленным бинтом, Шмелев стоял и смотрел вдаль, на синие горы. Смотрел и никак не мог оторваться.
...Шмелев родился в глухой степной деревушке, в семье кузнеца. И хоть работали в кузнице всего двое - отец да работник, но Шмелев-старший ревниво следил, чтоб его называли не кузнецом, а хозяином кузницы. Был он невысоким, худощавым, однако легко сгибал и разгибал подковы.
Любил он своего сынишку - наследника. Но тот тревожил отца. Нет, не то, чтоб рос слабеньким или трусоватым. Мальчишка зимой бегал без шапки, по первому морозцу купался, в обиду себя не давал.
Но не было у парня любви к отцовскому ремеслу.
Не раз Шмелев-старший, мужик хитрый, проницательный, пытался залезть сыну в душу.
Не получалось. Он наталкивался на послушание и... полное равнодушие к своим планам и мечтам.
- Вот подрастешь,- соблазнял отец,- еще работника возьмем. Знаешь, какую кузницу развернем!
- Как скажешь, батя,- равнодушно соглашался сын.
Шмелев-старший понимал, что покорности сына придет конец. Появится у того своя мечта, и тогда уж с ним ничего не поделаешь.
- Характер-то у него мой,- с досадой и гордостью говорил старый кузнец,- на своем настоит.
И поэтому, когда однажды сын, не поднимая глаз, заявил, что "пойдет в учителя", Шмелев только махнул рукой. Он понимал, что ни угрозы, ни уговоры не помогут. Мечта о наследнике-преемнике не сбылась.
Когда Шмелев-младший, окончив гимназию, приехал домой, отец опять размечтался. Нечего Михаилу возвращаться в село. Пусть едет в Ростов, а то и в Москву. Почему нет? Старик от учителей слышал о способностях сына.
- Талант у него,- говорил учитель географии,- вторым Ломоносовым будет. Имя у них уже одно, так что дело теперь за малым осталось,- шутил учитель.
Шмелев-старший видел сына директором гимназии, а то и тайком советником, чем черт не шутит!
Но своенравный отпрыск опять нарушил планы отца. Волны революции докатились, наконец, в степные края. И будущий Ломоносов добровольно вступил в первый же пришедший в городок красноармейский отряд. Отцу переслал записку: "Прощай, батя. Пошел воевать. Победим - вернусь домой".
Но домой он вернулся лишь через сорок лет, уже прославленным академиком. Отец умер. Его похоронили рядом с матерью. В селе не осталось знакомых, ни стариков, ни сверстников. Столько лет, две войны...
Об одних напоминали потемневшие кресты на погосте, об иных и памяти не сохранилось - погибли в далеких краях, разъехались.
Да и села-то, собственно, не осталось. Два-три старых дома из тех, что когда-то были попрочней, сиротливо ютились на окраине городка. Новые дома, Дворец культуры, огромная больница, школы, кинотеатры. По широким заасфальтированным улицам снуют автобусы.
- Вот, товарищ Шмелев,- с гордостью говорил своему земляку председатель горсовета,- растем, строимся, уж не знаем, как улицы называть. Хотели одной ваше имя дать, да, говорят, при жизни неудобно. Так что обождем.
И столько было искреннего уважения в тоне председателя, что Шмелев, скрыв улыбку, серьезно поблагодарил.
Да, многое изменилось здесь за сорок лет. А больше всего изменился он сам, Михайло Шмелев, сын кузнеца, владельца кузницы.
Ломоносовым он, правда, не стал. Академик, дважды лауреат Государственной премии. Награжден орденами. Путь к званиям и почестям пролег по пыльным и дымным дорогам гражданской войны, по нелегким ухабам дальних экспедиций, по кровавым полям Великой Отечественной.
После гражданской войны Шмелев был политкомиссаром, партийным работником, заведовал отделом народного образования, руководил театром, а потом почему-то стал директором археологического музея.
Собственно, музея никакого не было. В большом запущенном здании был пустой зал с выбитыми стеклами и обвалившейся штукатуркой. В подвале валялись вперемешку какие-то ископаемые кости, древние кольчуги, обломки труб, побитые амфоры.
Шмелев взялся за дело с присущей ему энергией. Как всегда, составил себе режим дня: в шесть - подъем, до восьми - занятия языком... На этом режим кончался. Дальше шел пятнадцатичасовой рабочей день, во время которого удавалось иногда поесть.
Эти утренние два часа Шмелев соблюдал всю жизнь. Их он отводил науке: читал, изучал языки, математику, географию, физику, а главное- историю.
Конечно, изучать латынь или английский без учителей, без программ, по ветхим, с вырванными страницами учебникам было делом нелегким. Выручали исключительные способности, острый аналитический ум, железное упорство и потомственное здоровье кузнеца.
Шмелев написал сам от руки полтысячи писем с просьбой присылать экспонаты в музей.
В стране было холодно и голодно. Не хватало рабочих рук, знаний. До музеев ли было?
И на удивление самому Шмелеву, экспонаты стали прибывать. Посылками, иные - оказиями, иногда просили приехать и забрать.
Было немало курьезов. Матрос прислал, например, бережно завернутую во множество тряпиц старую трубку. Он курил ее в тот момент, когда у него родился сын. Капитан, пришедший на крестины и узнавший об этом, сказал: "Смотри-ка, Волощук, в такой ответственный момент курил. Прямо историческая у тебя трубка". Услышав, что трубка историческая, матрос подарил ее музею, откликнувшись на просьбу Шмелева.
Другой раз с большими трудностями доставили в музей мешок костей, раскопанных в кургане. Оказались коровьи.
В конце концов была собрана неплохая археологическая, даже палеонтологическая экспозиция. Был и череп мамонта, привезенный из Сибири.
Расставляя экспонаты, составляя подписи, Шмелев много читал, изучал палеонтологию, археологию, геологию. Постепенно наука стала главным делом его жизни.
21 июня 1941 года он защитил докторскую диссертацию. Ему было за сорок. Возраст для многообещающего, блестяще эрудированного ученого не такой уж большой. Его коллеги, как правило, были старше.
Не дожидаясь повестки, Шмелев взял вещевой мешок, с которым обычно ездил на рыбалку, сложил в него походное барахлишко, запер свою холостяцкую комнату и отправился в военкомат.
Его взяли в ополчение, и очень скоро он очутился на ближних подступах к Москве. Здесь, в холодных землянках, укрытых снегом, в дни затишья он пытался соблюдать свои два часа, Но вскоре убедился в бесполезности таких попыток. Тогда он стал набирать эти сто двадцать минут за целый день. Притулившись где-нибудь у бруствера, он решал алгебраическую задачу, переводил им же придуманный текст на иностранные языки.
В ополчении он был не единственным ученым. Люди одного дела, они, естественно, сдружились и порой, не обращая внимания на близкие взрывы снарядов и взвизгивание шальных пуль, вели свои научные беседы, спорили, горячились.
Наступали бои, и ученые превращались в воинов.
Атаки, сражения... Многие погибли.
Они погибли не от взрыва в лаборатории, не от опытной прививки, их имена не сохранит история науки, как имена своих мучеников и святых. Они нашли смерть как простые солдаты в развороченных сырых окопах, в холодных снегах, в обгорелых лесах. Но без этих солдат, без их порой неведомых подвигов на долгие годы опустилась бы ночь на мировую культуру, на мировую науку.
История сохранит их имена...
Лежа в черном снегу глубокой воронки, прислушиваясь к вою пролетавших над ним осколков и жужжанию пуль, Шмелев думал:
"Каким же надо быть чудовищем, чтоб сознательно ввергнуть человечество в войну ради подлых целей, ради маниакального стремления к господству! Война уносит человеческие жизни, миллиарды денег. Годы труда, усилия миллионов людей пропали, развеялись в пороховом дыму, сгорели в пожаре войны. Сколько еще бедствий принесет война...