Я работал как вол, чтобы выжать из земли побольше. Дело подвигалось медленно, скажу я вам. Много ли наработаешь двумя руками, когда все приходится делать самому! Но из дому мне написали. "Раз в Аргентине столько земли, мы продадим здесь свой участок и приедем к тебе". Я обрадовался, подумал: "Тысяч семь песо они за свое добро там получат. А главное, прибавится рук, и я не буду так одинок". Взял я в кредит плуг, борону, сулку, пару лошадей, мулов, кур и всякую мелочь, без которой поначалу в хозяйстве не обойтись. Увидев письмо, где говорилось, что старики привезут семь тысяч, мне охотно дали все это в долг. "Только не очень спешите, ведь светопреставление еще не завтра". - "Еще бы, - говорю, - если бы это случилось завтра, вы бы лишились своих безбожных процентов, не так ли? Чем позже я вам заплачу, тем для вас лучше, а?" Впрочем, другого выбора у меня не было.
Вдруг мать написала, что отцу не хочется уезжать из Лужиц. "Зачем, - говорит, - на старости лет начинать все сначала в какой-то глуши". У него всего хватает, даже словацкого винца он может выпить сколько хочет и когда захочет. Наконец отец все же решился. Продали на родине все: поле, домик, виноградник. Это было в тридцать втором году. В Европе тогда было плохо, за землю платили мало. Вместо семи тысяч они получили две с половиной. Когда отец приехал в Аргентину, в кармане у него было двадцать восемь песо! Дело было плохо. Вдобавок ко всему в тот год гусеницы сожрали почти весь урожай. А на следующий год на хлопчатник напала саранча. Мы сгоняли ее с поля всеми средствами, вплоть до того, что гоняли по нему лошадей, но ничего не помогло. Едва одна стая саранчи поднималась, как на ее место садилась другая. Долги росли, а надежды на то, что я скоро рассчитаюсь с ними, не было; тем более, что из дому уже никто ничего не мог нам прислать. Отец был страшно зол на меня. "Написал бы прямо: здесь, мол, такая глухомань, что уж коли застрянешь, так ни за что на свете не выберешься". Кроме того, он стал посылать панические письма матери, которая с двумя сестрами должна была приехать вслед за ним.
"Дорогая женушка, - писал он. - Не приезжай сюда, а лучше вышли мне те деньги, что отложены у тебя на дорогу, чтобы я мог вернуться. Здешний ад не про добрых людей. Тут комар куснет в шею, а жало его из-под кадыка наружу вылезет. Только что мимо меня проползла змея длиною в семь метров. Я так кричал, что прибежали пеоны из соседнего корраля и закололи ее вилами. Если бы ты знала, какая в этих местах жара. Просто сил нет! Ночью я сплю в корыте с водой, чтобы не зажариться в постели. Что ты станешь тут делать со своими пуховыми перинами? Или вот еще пример: когда курица тут сидит на яйцах, то они успевают испечься под нею. Вот какая у нас тут жизнь! Ради бога, даже и не думай приезжать сюда, в эту преисподнюю…"
Но было поздно. Мать с сестрами уже находилась в пути. Я приехал за ними на сулке в Саэнс-Пенью. Можете себе представить, сколько было слез и объятий. Потом началось
Мать вдруг вытаскивает из чемодана жестянку в обертке. Смотрю и думаю: чем это она собралась меня удивить?
"Здесь, в Аргентине, "Сидола" наверняка не достать. Я, сынок, привезла тебе "Сидол" - медные ручки на дверях чистить", - говорит мать. Меня словно ошпарили, и я не знал, что мне делать. "Говорю тебе: дверные ручки им чистят. Ну, отныне тебе об этом думать не придется, я все сама сделаю. И готовить ты тоже не будешь. Теперь у тебя начнется другая жизнь, совсем не такая, о которой ты мне писал…" - "Ладно, ладно, мама, - едва выдавил я из себя, - ручки чистить не придется, у меня в доме нет ни одной двери. Только кладовка закрывается". Но мать как будто и не слышала этого и продолжала рыться в другом чемодане.
"Ты еще не забыл эти занавески? Я приготовила их к твоей свадьбе, дорогой мой мальчик, - говорит она. - Я тебе еще их повешу на окна, чтобы дом у тебя был как картинка…" Я не хотел огорчать ее. "Спасибо, мама", - говорю, а сам с грустью думаю о той минуте, когда она переступит порог моего ранчо. Как-то переживет она все это? Сами понимаете, у меня не было времени, чтобы возиться со штукатуркой или там с побелкой. Ранчо я сложил из необожженного кирпича и глины. Хорошо еще, что крыша была покрыта гофрированным железом, так как я еще по Аньятужье знал, что может натворить в доме один ливень. А о занавесках… где уж мне было о них думать!
Не приведись вам видеть того, что творилось, когда мы, наконец, приехали домой. Ноги у матери подкосились, она рвала на себе волосы. До следующего дня я не мог ее, бедняжку, успокоить, так она рыдала.
"Ты, - причитала она, - живешь в таком загоне, и все из-за девки, которая уже давно вышла замуж, изменщица". Для меня это был удар в самое сердце. Где-то в глубине души я все еще верил, что вернусь и что мы будем вместе. А теперь?
На счастье, темнота скрывала глаза Штефы. В эту минуту они, наверное, блестели от слез, которые трудно себе представить на лице, обтянутом кожей, напоминающей кору лиственницы. Он долго-долго молчал, пока не успокоился окончательно.
- К этому времени я уже задолжал больше шестнадцати тысяч песо, - сказал он под конец. - Вместе с матерью приехали обе мои сестры. Одна нашла место в трактире "Моравия", вторая, та, что окончила гимназию, в конце концов пристроилась у одного земляка-фотографа. На следующий год урожай был неплохой. Я отдал три тысячи долга, но, сами знаете, проценты растут быстрее, чем отдается долг. Мы гнули спину, работая главным образом на чужих. И так продолжалось до самой войны. В сороковом году я посеял хлопок на ста гектарах. У нас организовался кооператив, и мы получили за хлопок все же побольше, чем платили до этого, когда были вынуждены весь урожай отвозить кредитору. В сорок шестом цены на хлопок резко поднялись, и мне удалось, наконец, расплатиться с самыми неотложными долгами. А в прошлом году мы выручили от продажи хлопка двадцать тысяч, и я выплатил остаток долга да прикупил кое-какую скотину и инвентарь. На будущий год собираюсь посеять сто пятьдесят гектаров. Есть у меня семь плугов, культиваторы и немного скота. Загляните ко мне на чакру, это недалеко. Все будут рады вспомнить родину, - сказал Штефа и зажег спичку, чтобы взглянуть на часы. - Заболтался я сегодня, не обижайтесь, пожалуйста, мне уже пора…
Он встал. Мы зажгли свет. Его костлявые, натруженные руки беспокойно мяли шапку, а глаза горели странным блеском. Было видно, что он еще чего-то не досказал, но старается сдержаться. Раза два или три он переступил с ноги на ногу, переложил шапку в правую руку и провел рукавом по спинке стула.
- А не собираетесь ли вы вернуться на родину? - попытались мы помочь ему выйти из затруднительного положения.
Словно электрический ток прошел по Штефе.
- Я как раз сейчас об этом и думал, - сказал он торопливо. - Знаете, это, конечно, несбыточная мечта. Почти двадцать лет я живу здесь, на следующий год будет ровно двадцать. Я давно женат. У меня хорошие дети, и свою давнишнюю любовь я уже позабыл. И все же я бы с радостью собрался, продал бы все, что нажил за эти годы, и уехал. Больше всего меня волнует: не изменились ли наши словацкие обычаи? Не стыдятся ли сейчас молодые выйти в воскресенье на деревенскую площадь в национальном костюме, потанцевать, повеселиться и не прячут ли они эти замечательные костюмы в сундуках? Столько же поется песен, как и в ту пору, когда я был в деревне заводилой? Поверьте мне, я готов отдать все, что есть на чакре, чтобы сохранить эти наши обычаи. Тому, кто здорово танцует, отдал бы сапоги. Кто хорошо поет - получай красные штаны. А больше всего досталось бы тому, кто может быть заводилой…
Штефа уже сидел на козлах сулки, а глаза его все еще блестели. Он наклонился вперед, похлопал лошадь, помахал на прощанье рукой и скрылся в темноте.
"За можем ми руже квитла, я ю тргат небудем", - слышалось во тьме ночи. Постепенно слова затихли вдали. Пес повертелся у ног и выбежал за калитку. Звезды робко мерцали в бархате ночи, почти так же, как и там, далеко, на севере. Только не было среди них Полярной…
С ДИКОГО ЗАПАДА
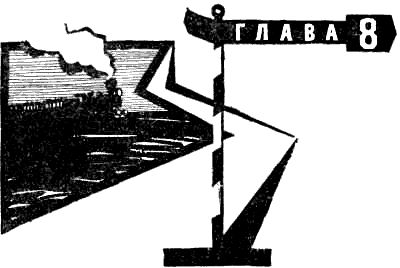
Чуку на языке индейского племени кечуа, до настоящего времени обитающего в нагорьях Боливии и Перу, означает "место для охоты". Так кечуа называли огромные земли, которые от их поднебесных гор уходят, понижаясь, куда-то далеко на восток. Испанские завоеватели назвали впоследствии исковерканным именем Чако всю обширную область, которая представляла наибольшее препятствие на их пути от устья Ла-Платы к легендарной горе Потоси, где якобы серебро текло рекой.
Испанский историк Педро Лосано говорит об "обширном крае", исследованном испанцами и названном "Чако-Гуалампа". Так как с точки зрения первых конкистадоров этот край был действительно огромным, они дали ему название "Гран-Чако". Позднейшие географы разделили это колоссальное место для охоты на три обособленные части: южное Чако - "аустрал", среднее - "сентрал" и северное - "бореал". Вся территория площадью около 700 тысяч квадратных километров раскинулась от реки Парагвай на востоке до предгорий Кордильер и от Мату-Гросу на севере до реки Рио-Саладо, которая в Санта-Фе сливается с Параной. Чако бореал, которое сравнительно недавно было ареной военных действий между Парагваем и Боливией, отделено от среднего Чако течением реки Пилькомайо, а границу между средним и южным Чако образует река Бермехо, параллельная Пилькомайо. А так как по реке Пилькомайо в настоящее время проходит государственная граница между Парагваем и Аргентиной, то две части огромного "места для охоты" оказались под властью Аргентины. Судьбу северной территории решил после окончания войны мир, подписанный 21 июля 1939 года. Большая часть спорной территории отошла к Парагваю.