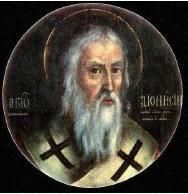
Рис. 43. Ареопагит
Энциклопедия символов греческой культуры была составлена учеником Плотина Порфирием в его комментарии к "Пещере нимф", учение о символах развито Ямвлихом и прочно в неоплатоническую традицию, где получило завершение и систематизацию у Прокла. К Порфирию обращается Григорий Нисский в Рождественской гомилии, в христианской традиции идеи Ямлиха и Прокла [246] также проявятся и получат свое преломление, это произойдет в трудах Дионисия Ареопагита.
О месте и значении Ареопагита в формировании христианского символизма С.Л. Епифанович пишет: "… Ареопагит затронул и сумел ввести в систему своей мистики самую жизненную сторону интересов в Византии – церковный культ, бывший в то время сферой оживленного творчества и всеобщего внимания и все более склонявший к себе сердца и умы всех, заслоняя даже и богословско-философские интересы. Ареопагит – родоначальник богослужебной символики . Здесь корень его популярности на Востоке" [247] .
Каппадокийская линия в богословии Ареопагита прослеживается в порядке взаимосвязи катафатического и апофатического богословия в боговедении, восходящем к "мраку божественного молчания" . В этой связи уместно прямое указание на Григория Нисского, указавшего на божественный мрак как особый модус богообщения. Отдельно диалектические построения гносеологии рассматривались выше как принцип символического реализма Григория Нисского и как проявления этого принципа в конкретных смыслах текста и его стилистических приемах.
Принцип иерархизма , детально и тонко разработанный в мистическом богословии Ареопагитик, закладывается в рассуждениях каппадокийцев об иерархическом, а не временном порядке сотворения мира и миробытия.
По Ареопагиту, "Все причастно Бога бытием, жизнью, движением", [248] – в этой формуле узнаваем категориальный аппарат Григория Нисского. Отзвуки каппадокийского учения о "семенных логосах твари", имеющие стоические истоки, проявляются в учении Ареопагита о разных видах причастия твари Божеству и проявлении в мире Его хотений и энергий . Учение об энергиях предварено учением Григория Нисского об энергийной природе вещества; об одновременном возникновении души и тела (там речь шла о потенциях-энергиях-эйдосе); об апокатастасисе (в трактовке зла как недостатка ведения). Как "родоначальник богослужебной символики" Ареопагит – наследник Василия Валикого, с чьи именем связано чинопоследование литургии, Григория Богослова, определившего ранний этап становления обряда Византийской Церкви, Григория Нисского – как тайнозрителя и философа. Все перечисленное выше имеет целью переместить внимание в истории формирования богослужебного символизма от итога – к причине; от Ареопагита – к каппадокийцам. Указание на преемственность Дионисия Ареопагита по отношению к каппадокийцам обусловлено тем, что этот вопрос небесспорен, так, в частности, в работе, посвященной истории литургического символизма В.М. Живов противопоставляет Ареопагита каппадокийцам в силу его тяготения к неоплатоникам.
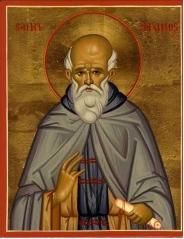
Рис. 44. Максим Исповедник
Бесспорно влияние Дионисия Ареопагита на богословие Максима Исповедника, который "дал первый опыт системы византийского богословия, в тех рамках, как оно существовало впоследствии и как оно выразилось в "Изложении православной веры" св. Иоанна Дамаскина". [249] В качестве предшественников Максима Исповедника Епифанович называет Григория Нисского, Григория Богослова, Афанасия Александрийского и Ареопагита.
Определение символического реализма дает протопресвитер Александр Шмеман, так же, как и Живов, подчеркивая преемственность Максима Исповедника по отношению к Григорию Нисскому: "Не вдаваясь в подробности богословия св. Максима, можно с уверенностью сказать, что для него символ (так же, как и другие более или менее эквивалентные термины typos и eikon ) неотделим и из практических соображений подчинен центральной идее таинства, mysterion , которое, по крайней мере, применительно к литургии, обращено к таинству Христа и Его спасительного служения. Это таинство Воплощения и искупления человека и мира во Христе. Следовательно, mysterion означает и саму суть веры, познания божественной тайны, явленной во Христе, и спасительную силу, сообщаемую через Церковь и в Церкви. В таком богословии символ есть способ присутствия и действия mysterion\'а , и главным образом, хотя и не исключительно, его присутствия и действия в литургии – особом местопребывании символа. Таким образом, символ – и это очень важно – есть сама реальность, которую он символизирует" [250] . Фигура преподобного Максима Исповедника важна с точки зрения родословной христианского символизма. Выстраивается линия преемственности, ведущая от "великих каппадокийцев" к Дионисию Ареопагиту, далее – к Максиму Исповеднику и Иоанну Дамаскину. Автор "Мистагогии" стал преемником каппадокийцев по части таинственной экзегезы, в своем тайноводстве он явился родоначальником литургического символизма. Как прямой предтеча Иоанна Дамаскина, Максим Исповедник входит в историю богословия образа . Именно труды Иоанна Дамаскина предварили утверждение догмата иконопочитания [251] Седьмым Вселенским Собором; канон [252] получил свое определение в Деяниях Пято-Шестого (Трулльского) Собора в 681 году в 73, 82, 100 правилах Собора.
Историческая линия формирующего влияния святоотеческого богословия на богослужебное искусство позволяет наметить ряд основных вех:
IV век – становление символического реализма в каппадокийском богословии; переход от аллегорической экзегезы к тайнозрительным толкованиям; формирование чинопоследования богослужения и ранний этап формирования обряда Византийской Церкви; формирование картины мира раннего Средневековья в трудах каппадокийцев;
VI век – формирование богослужебного символизма в трудах Дионисия Ареопагита;
VII век – утверждение канона иконопочитания [253] Пято-Шестым (Трулльским) Собором; создание Максимом Исповедником "Мистагогии" как опыта литургического толкования; богословское определение им литургического символа, имеющего в своей основе идею Искупительной Жертвы Христа и обожения человека;
VIII век – формирование богословия образа в трудах Иоанна Дамаскина и других иконопочитателей в условиях борьбы с иконоборческой ересью; утверждение догмата иконопочитания Седьмым Вселенским Собором;
IX век завершает этот масштабный период учреждением Праздника Торжества Православия (843 г.), который подвел итог развитию богословия образа иконоборческой эпохи.
Наше внимание будет сосредоточено на двух аспектах: влиянии каппадокийского богословия на богословие образа и на формировании системы канона в христианском искусстве.
На богословие образа прямое влияние оказали две работы Григория Нисского: "Слово 19, сказанное в Константинополе о Божестве Сына о Святом Духе и об Аврааме" и трактат "Об устроении человека". Обе работы цитирует и комментирует преп. Иоанн Дамаскин в "Трех защитительных словах против порицающих святые иконы или изображения". В корпус Деяний VII Вселенского Собора вошлы выдержки из "Слова", которые комментируются отцами Собора. "Слово" привлекало историков искусства, таких как Д.В. Айналов, К. Манго, Ю.Г.Малков, в нем они видят один из ранневизантийских экфрасисов, изображение сцены жертвоприношения Авраама Григорием Нисским представляется Айналову и Малкову натуралистичным. Описание, изъятое из контекста гомилии, трактуется совершенно иначе, чем представителями святоотеческой традиции, и разница эта принципиальна.
Тема о человеке глубока в антропологии каппадокийцев: она соприкасается с апофатическим богословием, проблема апофатического образа в иконописном каноне скорее обозначена, нежели разработана. Ей посвящена публикация Ю.Г. Малкова "Некоторые аспекты развития восточнохристианского искусства в контексте средневековой гносеологии" [254] . Эта работа замечательна концепцией, введенной в научный обиход, однако не свободна от ошибок. Одна из них напрямую касается нашей темы. Автор считает, что описание иконы "Жертвоприношение Авраама" выдержано Гриторием Нисским в катафатическом духе [255] . Но это суждение верно лишь отчасти.