Источники и литература
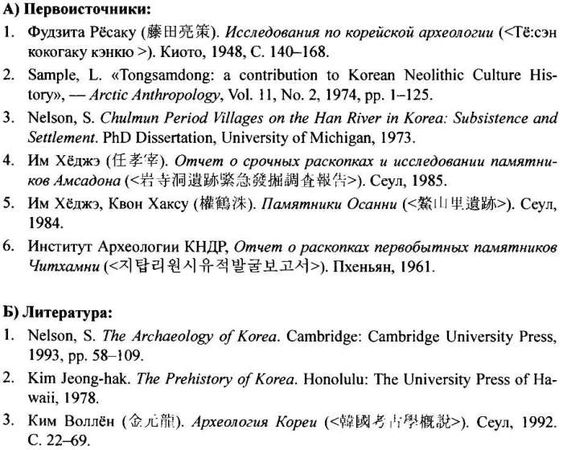
Глава 3.
а) Бронзовый век Корейского полуострова (X–III вв. до н. э.). Проблема происхождения древнего Чосона (X–IV вв. до н. э.)
1. Бронзовый век Корейского полуострова (X–III вв. до н. э.)
Как известно, в истории человечества в целом бронзовый век - период, когда применение металла способствовало ускоренному росту производительных сил общества, а, соответственно, и скачкообразным преобразованиям в его структуре. Окончательно утвердились иерархические отношения как внутри каждого социума, так и между различными обществами. Появилась ранняя государственность, т. е. социальные иерархии нескольких регионов слились в одну комплексную и относительно унифицированную структуру с определенными границами и центром. Ранняя государственность бронзового века оказалась способной как на невиданную в прошлом по масштабам организацию общественного труда, так и на беспрецедентное массовое насилие и принуждение. Государственность означала окончательное закрепление основанных на насилии (или угрозе его применения) отношений власти-подчинения по вертикали общества, а также легитимизацию организованного насилия (войн) по отношению к другим обществам. Культуры земного шара начали структуризироваться в иерархию и "по горизонтали". Более "передовые" культуры Южной Евразии (прежде всего Средиземноморья, Ближнего Востока, долин Инда, Ганга и Хуанхэ) и Северной Африки, с развитой металлургией и уже оформившейся государственностью, образовали своего рода "ядро" мировой системы бронзового века. Возможности применения крупномасштабного насилия - технологические и организационные - которыми обладало "ядро", как правило, значительно превосходили способность догосударственной "периферии" к обороне. Это давало ранним государствам бронзового века возможность шаг за шагом успешно колонизировать и эксплуатировать "варварскую периферию", перераспределять ее ресурсы в свою пользу. В то же время политические образования "ближней периферии" имели тенденцию, в ответ на цивилизационный вызов со стороны "центра", заимствовать металлургическую технологию и образовывать свою собственную ("вторичную", по отношению к "центру") государственность. Попытки "ближней периферии" вырвать у "центра" цивилизационную гегемонию (в комплексе часто именующиеся "варварскими вторжениями") создавали как постоянное напряжение внутри мировой системы, так и возможности для ее развития.
Каким же образом были распределены культуры бронзового века в Евразии? Что представлял собой бронзовый век в регионах, прилегающих к Корейскому полуострову? Бронза (сплав меди и олова) вошла в употребление в Египте и на Ближнем Востоке (прежде всего в Месопотамии) в середине III тыс. до н. э. Она стала основой для оформления там древнейших в Евразии очагов государственности. С запада бронза постепенно распространялась на восток - уже в сер. III тыс. до н. э. она была известна в долине Инда. С середины II тыс. до н. э. бронза стала широко распространяться и на "варварской периферии" тогдашнего "цивилизованного мира" - в Южной Сибири (прежде всего на Алтае и в Саянах). Бронзовые культуры индоевропейцев Урала и Южной Сибири - афанасьевская (III–II тыс. до н. э.), андроновская (середина - конец II тыс. до н. э.), срубная (II тыс. до н. э.) и тагарская (I тыс. до н. э.) - оказали значительное влияние на развитие бронзовой металлургии как на Корейском полуострове, так и на территории современного Китая. Китай, с точки зрения общеевразийского контекста, значительно "отставал" в освоении металлургии и развитии раннеклассовых общественных форм. Бронзовый век пришел туда лишь на рубеже III–II тыс. до н. э. и, как предполагает ряд ученых, через посредство более "передовых" западных соседей. Классической культурой раннего бронзового века в Китае считается культура эрлитоу (по названию стоянки Эрлитоу в Яньши, пров. Хэнань), датируемая XXI–XVI вв. до н. э. Освоение бронзовой культуры дало протокитайскому населению долины р. Хуанхэ возможность относительно скоро (приблизительно в XIV в. до н. э. - т. н. "аньянский" этап в развитии Шан-Иньской культуры) создать первый в истории восточноазиатского региона мощный центр "классической" ранней государственности. Типичными чертами такого центра были обожествленные правители (монополизировавшие как производство бронзовых изделий, так и право на контакт с высшими божествами), аристократия воинов-колесничих (четко отделенная от рядовых общинников), и тенденция к распространению своего влияния - как политического, так и культурного - на окружающие "варварские" племена. В результате с середины II тыс. до н. э. культура долины р. Хуанхэ стала "ядром" региональной восточноазиатской системы. "Периферийные" некитайские этносы, стремящиеся защитить себя от перспективы утери политической самостоятельности и этнической идентичности, вынуждены активно заимствовать материальную культуру "ядра". Они также начали создавать, в значительной степени на основе исторического опыта "ядра", общественные институты, способные выдержать натиск более "передовых" соседей. Так в процессе поисков ответа на исторический вызов "ядра", динамической адаптации к требованиям новой культурно-политической ситуации в регионе формировались "периферийные" культуры Восточной Азии, в том числе и протокорейская бронзовая культура.
На настоящий момент кажется доказанным, что истоки бронзовой культуры Корейского полуострова следует искать в непосредственно прилегающих к северным границам современной КНДР районах Южной Маньчжурии. Именно там, под воздействием протокитайской шан-иньской, южносибирских (карасукской и прочих) и северокитайской ордосской бронзовой культуры, сформировался на рубеже II–I тыс. до н. э. оригинальный комплекс, в течение I тыс. до н. э. распространившийся постепенно на юг, по всей территории Корейского полуострова. Основные черты этого комплекса - бронзовые предметы (скрипковидные бронзовые кинжалы и ритуальные зеркала - знаки влияния военных вождей и жрецов), яшма как символ престижа формирующейся знати, гладкая керамика разнообразной формы и цвета, захоронения в каменных ящиках-гробах, мегалиты-дольмены над захоронениями элиты, и значительно более важная роль земледелия в общей структуре хозяйства. При этом следует отметить, что, в отличие от вождей и жрецов, простые общинники в основном продолжали пользоваться каменными, деревянными и костяными орудиями труда, в том числе и в земледелии.
С этнолингвистической точки зрения, носители бронзовой культуры в Южной Маньчжурии и на Корейском полуострове принадлежали, как считается, к монголоидной прототунгусской группе, условно отождествляемой с насельниками северных границ китайской культурной сферы, известными из китайских источников как емэк (кит. вэймо). Эта группа, по-видимому, отчетливо отличалась, как по языку, так и по облику материальной культуры, от неолитических насельников Корейского полуострова, родственных, скорее всего, современным палеоазиатским народностям Приамурья. В то же время вряд ли стоит, как это делают некоторые южнокорейские исследователи, изображать емэк как чуть ли не "гомогенную протокорейскую народность" с "единой культурой и языком". Археологические находки довольно ясно показывают, что бронзовая культура маньчжурско-корейского ареала была сложным, разнородным конгломератом региональных вариаций, объединенных лишь несколькими общими чертами.
Процесс распространения культуры бронзы по Корейскому полуострову, с севера на юг, в X–V вв. до н. э., был одновременно и процессом смешения "северных пришельцев" (условно отождествляемых с емэк древнекитайской историографии) с автохтонным неолитическим населением полуострова. Распространенное в южнокорейской исторической науке представление об этом процессе как о "завоевании" полуострова "северянами" кажется чрезмерно упрощенным. Во многих случаях "северная" культура могла проникать на полуостров постепенно, в течение столетий торговых контактов, культурных заимствований и смешанных браков. Смешанное постнеолитическое население во многом продолжало традиции неолитической культуры. Это заметно, скажем, по формам жилищ, облику орудий труда, и т. д. Но в то же время культура металла, которой владели "пришельцы с Севера", не могла не занять в обществе доминирующего положения. Результатом ассимиляции неолитического населения полуострова в более развитую бронзовую культуру Севера и было формирование этнического субстрата, условно идентифицируемого как маньчжурско-протокорейский. Именно к этому субстрату и относилась племенная группа, сумевшая к IV–III вв. до н. э. создать в северной части Корейского полуострова и на прилегающей территории Маньчжурии протогосударство Древний Чосон.