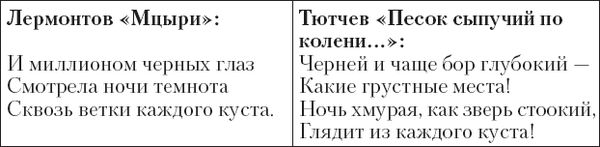
Что касается стихотворной техники поэта, то стоит ограничиться показом метрики, ритмики и фоники. Размер – пятистопный ямб (аБаБ). Последние два стиха выделены перебоем: удлиненный Я6 и укороченный заключительный Я4. Перебои чрезвычайно выразительны. Такой минимум стихотворной техники вполне усвояем. Учителю легко пояснить, что стихам Тютчева присуще изящество формы. А если стихотворение проникнуто мыслью так, как это умел поэт, то и консервативный ямб не стареет. И поэзия Тютчева не стареет.
Еще любопытный момент. Тютчев бы не был самим собой, если бы не мог сказать сначала так:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
И мы ему верим. А потом – так:
Природа – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
И мы ему тоже верим!
"Продвинутым" ученикам можно предложить задания, рекомендованные в одном из пособий, изданных МГУ:
• сопоставьте "Вечер" Жуковского и "Тени сизые смесились";
• сравните "Невыразимое" Жуковского и "Silentium";
• составьте метрические схемы стихотворений "Silentium" и "Последняя любовь".
В программу включим стихотворения по выбору учителя.
А. Н. Островский
"Мнение, что Островский хорош, где традиционно рисует купцов-самодуров и их загнанных жертв, сделалось общим".
Вестник Европы, 1869 г.
"…дать положительное силы таланта не имел, холоден, растянут (повести в ролях) и недостаточно весел, или лучше сказать, комичен, смехом не владеет. Островскому форма не удалась. Островский, хоть и огромное явление, но сравнительно с Гоголем это явление довольно маленькое… он мало сказал".
Ф. М. Достоевский
Пьесы Островского архаичны, даже дремучи, и в них почти нет "положительного". Темное царство, изображенное Островским, расположено ближе к Азии, чем к центру России и тем более бесконечно далеко от Европы. После знакомства с пьесами остается впечатление, что просвещение еще не дошло до "темного царства" и, может быть, не дойдет вовсе. Его обитатели и не нуждаются в нем. Они копошатся на земле и не смотрят ни в Даль, ни в Небеса.
Поэтому, а также из-за перегрузки программы, предлагаю творчество Островского не изучать.
Ф. М. Достоевский
"Менее подходящего к детскому возрасту писателя не существует".
Из доклада в Министерстве народного просвещения, 1885 г.
"Тот, кто случайно заронил мысль об убийстве старухи, только придал выражение чему-то тайному, дремавшему в нем. Раскольников, волшебник самоуединенности, и заклятием воли выкликает колдовской мир безумия".
Вяч. Иванов, 1932 г.
Великий писатель Ф. М. Достоевский – один из самых читаемых и самых цитируемых в мире. Его произведения, казалось бы, надо учить в школе. Но поскольку в них он "заглядывал в бездны человеческого духа" и поднимал "проклятые вопросы", то есть сомнения на этот счет.
Для меня, почитателя Достоевского, долго не хватало одного момента, а именно отношения его к просвещению. Когда нашел его, то обрадовался: "Что несем мы из Европы? Пред чем народ должен бы был преклоняться? Нет, отнюдь не нравственные начала… а во-первых и главное, – образованность, расширение горизонта, умножившееся и усиленное пониманием своей идеи через сопоставление с западноевропейским миром…". Здесь Достоевский и Тютчев – единомышленники. Это есть довод в пользу изучения. Однако проблема остается. Ее понимали еще в царское время. В Ученом комитете при Министерстве просвещения в 1885 г. рассматривался вопрос, какие рассказы допустить в школьные библиотеки: "Столетняя", "Мужик Марей" и "Мальчик у Христа на елке". Первые два были разрешены, так как в них в порядке "счастливого исключения не очерчивается мир страданий, порожденных особого рода развратом и преступными деяниями целой среды, в которой действуют надорванные люди, будущие преступники". Рассказ "Мальчик у Христа на елке" был запрещен. Не могло быть и речи о включении "Преступления и наказания" в детские библиотеки. Кстати, Достоевский считал, что "Отверженные" Гюго выше "Преступления и наказания". Над этим стоит подумать. Во всяком случае, для молодых людей "Отверженные" Гюго – более подходящая книга. Эти факты усилили мои сомнения в целесообразности изучения Достоевского. К тому же могу добавить следующее. Мое поколение читало Достоевского, и часто запойно, только в 20–25 лет. Достоевский привлекал нас как автор психологического детектива с мастерски закрученным сюжетом (так воспринимают его творчество большинство читателей, особенно на Западе). Но мы, в основном по молодости, не обращали внимания на суть – проповедь превосходства смирения и страдания над другими не менее важными ценностями. Наконец, мы, как и современные школьники, были не способны понять и принять доминанту: ближайший путь к Богу (Христу) должен проходить через грех и страдание. Именно в такой последовательности. Это – слишком мрачное христианство.
Подведем итоги. Проблему изучения Достоевского могут решить совместно психологи и педагоги. Я считаю, что с его творчеством надо знакомить в обзорном порядке.
Л. Н. Толстой
Современников и людей XX в. поражала внешность писателя. И на учеников она произведет впечатление. Ученик интуитивно следует поговорке, что Бог дает человеку лицо и никогда не ошибается. Урок можно начать с показа двух-трех портретов и привести цитату из книги "Мир Леонардо", в которой об известном автопортрете Леонардо да Винчи сказано: "Это огромная изборожденная морщинами гора лица с благородными бровями, властными, похожими на пещеры глазами и струящимся потоком бороды предвосхищает лица великих людей XIX в… Дарвина, Толстого, Уолта Уитмена. Время, вечно ставящее спектакль человеческого страдания, вознесло их на недосягаемую высоту". Очевидно, научить детей почитать и восхищаться великими есть одна из важнейших задач школы.
Напомню, как блестяще В. Набоков однажды начал лекцию студентам о творчестве Толстого. Он выключил свет в аудитории, прошел к окнам, сопровождаемый изумленными взглядами, и опустил шторы. Стало темно. Потом он провозгласил: "На небосводе русской литературы – это Пушкин!" и включил одну лампу. "Это Гоголь!", и включил другую лампу… Наконец открыл штору на центральном окне. В аудиторию ворвался широкий луч солнечного света. "А это – Толстой!"
Роман "Война и мир" и в советские годы был труден для восприятия школьника. Теперь, когда время Толстого кажется бесконечно далеким, а Россию затопил вульгарный материализм, может показаться, что изучение романа – такая же безнадежная затея, как учить детей теории относительности. Это ошибочное суждение. Во введении было показано, что такую "махину", как "Война и мир", можно с успехом преподать детям. Для этого нужны три условия. Первое – уметь рассказывать просто о сложном. Второе – желание поделиться с учениками своей радостью от восприятия романа, от восхищения стилем ("яркость, свежесть деталей, сочные, живописные мазки для передачи естества жизни" – В. Набоков). Третье – поняв, что объять необъятное невозможно, опустить все второстепенное и сомнительное: образы Наполеона, Кутузова, Каратаева, духовные поиски Безухова и т. д. Однако согласитесь, Читатель, что заблуждения великих писателей интересней, чем откровения заурядных (но интересней для взрослого). Спасибо Толстому за его прозрения и за заблуждения тоже.
Заключительный урок я бы закончил такими словами:
1. Роман – в основном история дворянской элиты.
2. В нем есть русский дух и показано здоровье нации.
3. Образы героев (кн. Андрей, Безухов, Наташа) отличаются непревзойденной ясностью и определенностью.
4. Как дорогая редкость есть тема семьи.
5. С большой художественной убедительностью показана логика человеческой жизни: происхождение → задатки → воспитание → характер → идеалы, стремления → поступки → судьба. Причем герои, живущие неправедно, в конце концов уходят в небытие как несущественные эпизоды.
6. И, наконец, друзья мои, запишите два суждения, одно попроще, другое посложнее.
• Пушкин своим творчеством освещал жизнь, Толстой учил, Достоевский предостерегал, Блок ужасал грядущим.
• Одна из замечательных особенностей романа состоит в том, как отметил В. Набоков, что время, в котором живут герои, соответствует времени, в котором находится и следит за событиями читатель, как если бы он был очевидцем. Часы писателя и читателя синхронны. Такой же эффект наблюдается при чтении "Ивана Денисовича". Это вам пища для размышлений на будущее.
•…Мы ознакомились с великим романом Л. Н. Толстого "Война и мир", к которому, надеюсь, вы, отличники и троечники, будете иногда возвращаться в зрелом возрасте. Помяните мое слово. (А про себя бы подумал, довольный уроком: "Ай да я, ай да молодец!")
Подведем итоги. В программе остаются "Война и мир" и "После бала".