Паника птиц
Замер от восторга, радостью томимый:
Глазки – в ясно – небо, сердцем – ближе к крыльям.
В мареве июльском озорные птицы
Сумасбродным танцем принялись кружиться.
Воздух пропитался бесшабашной волей,
Завистливой слюнкой запершило в горле.
В синь – не наглядеться, нет тому порога.
Только точит нутро странная тревога.
Замер, словно вкопанный, онемев от гнева:
Так всегда случается с растерявшим веру.
В городской помойке, бередя страданья,
Унижались птицы, ища пропитанья.
Что ножом по венам, что иголка взгляда…
Путь нелегок к свету: сделал шаг – засада!
Одурачить сызнова? Много ли усилия!
Осмотрись! Вокруг в избытке ложное, красивое.
1998 г.
Сергей Грачёв и Сергей Никулин

Сергей Сергеевич Никулин, управляющий партнер "Группа 808. Информационный аудит". Рассказчик.
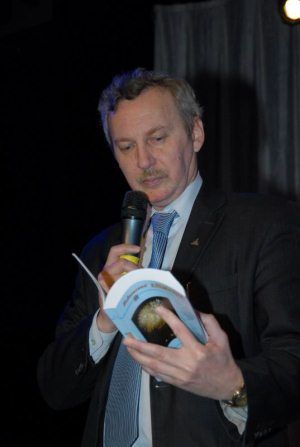
Сергей Анатольевич Грачёв, писатель.
Родился в 1961 году в Подольске Московской области, окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в издательствах "Мир книги", "Славянская школа", в литературно – художественном и публицистическом журнале "Новая Россия. Воскресенье". Рассказы публиковались в журналах и альманахах "Истоки", "Аргун", "Пионер", "Дон", "Москва", "Литературная Кубань", "Подольский альманах", "Тропою радуги", "Московский писатель", "Московский вестник", "Слово", "Новая Россия. Воскресенье", "Читаем, учимся, играем", "Человек и закон", "Детская Роман – газета" и др.; в коллективных сборниках "Эта гиблая жизнь" (ИТРК), "Письмена на песке" ("Московский Парнас").
Автор книг: повестей "Никто не застрахован" (М. "Мир книги", 1993), "Если ты смеешься…" (М. "Юность", 1998), "Рисунок на старых обоях" (М. "Мир книги", 1996); сказок "Солнечный эльф" (М. "Мир книги", 1997) и "Сказки о трех котах" (М. "Адалень", 2004); очерков "В пульсе высоких напряжений" (М. "Мир книги", 1996), романа "Медвежий баян" (М. "Глобус", 2000), "Сорванный поцелуй" (рассказы и повести, 2008 Подольск, "Информация") и др. Член Союза писателей РФ с 1997 г.
Предисловие к серии рассказов
В самый разгар перестройки, когда талоны на продукты питания постепенно отмирали, в редакции одной подмосковной газеты я познакомился с интересным человеком, моим тезкой Сергеем Никулиным. Выглядел он как научный сотрудник НИИ, большелобый, с бородкой, в очках, из‑под которых внимательно и весело глядели на меня глаза энергичного, никогда не унывающего исследователя – практика. Он руководил тогда сельскохозяйственным внедренческим предприятием.
В редакцию Сергей Сергеевич принес статьи о своих последних и довольно необычных изобретениях. Он со своими единомышленниками разработал биологически чистый биостимулятор для бахчевых культур, присадки к моторным маслам и фильтры для очистки воды от тяжелых металлов, нитратов и хлоридов. Другие изобретения были необычными даже для сумбурных 90–х – например, пробки с противоаэрозольным накопителем, который увеличивал срок службы автомобильного аккумулятора на 25 процентов. Мой тезка, как умел, боролся с электромагнитными излучениями, которыми мы пронизаны сегодня насквозь и которые ослабляют нашу истончившуюся иммунную систему, действуя при этом подавляюще на психику. А психику ближнего необходимо было укреплять – для успешного построения нового капиталистического общества. И Сергей, вместе со своими соратниками: историком, экстрасенсом и йогом, – придумал экран "Корона" – в виде обработанной по определенной технологии магнитофонной ленты. Вспомните наших пращуров – славян с ленточками – повязками на голове…
Но дело даже не во всех этих полезных изобретениях. Сергей Никулин оказался весьма интересным рассказчиком. Он знал массу занимательных историй, которые произошли с его приятелями и, нередко, при его самом непосредственном участии. Вот несколько этих забавных историй из славного доперестроечного времени я и решил поведать вам, дорогие читатели. Безусловно, с позволения моего тезки. И если Вы, уважаемый читатель, уже слышали что‑то подобное, то будьте уверены в том, что наиболее реалистическую и правильную версию поведал мой тезка.
"Лабана Клаб"
Земля, как известно, слухами полнится, а народ – он, знаете, как приукрасить любит! Разбирайся потом, что почем, и где есть истина. Вот и про случай на сахарном заводе тоже всякое болтают. А дело было так.
В 1971 году я провалился на вступительных экзаменах в институте. Маманя мне и говорит:
– Раз ты не готов к науке, то иди на производство. В конторах еще успеешь насидеться. К деду в Лабинск поезжай, он там кузнецом на сахарном заводе работает.
Дедушка за меня словечко перед начальством замолвит – это, конечно, хорошо, но я решил заручиться документом с печатью, направлением, путевкой в жизнь, как говорится. К человеку с путевкой от комсомола совсем другое отношение. Сходил я в горком, сказал вожакам, что меня степная птица в даль рассветную зовет. На сто восемьдесят километров от Краснодара – в предгорья Главного Кавказского хребта, поближе к минеральным источникам.
– Молодец, Никулин! – обрадовались вожаки. – С ученика токаря начнешь, а там, глядишь, через три месяца настоящим рабочим станешь. Сергеем Сергеевичем величать начнут. А почему именно Лабинск выбрал? – спрашивают.
– Ну, во – первых, там "Кубанских казаков" снимали, – отвечаю. – Мой любимый фильм. А во – вторых, минеральная вода в том месте отменная, как в Баден Бадене. Для желудочно – кишечного тракта очень полезна.
– Ну, ладно, знаток! – прервали мой поток красноречия вожаки. – Езжай подобру – поздорову. – И дали мне путевку в жизнь.
Как и во всяком кубанском райцентре, в Лабинске работало несколько заводов: консервный, маслоэкстракционный, сыродельный и мясокомбинат. А потому что в долине реки Лабы еще и свеклу выращивали, был еще и сахарный завод. А на сахарном заводе, если сказать по совести, полноценно можно вкалывать не более трех месяцев в году – пока свекла идет. Вот когда ее с полей привозят, завод бухтит круглосуточно, молотит и молотит. Чуть упустил свеклу, вовремя ее не переработал, она для производства сахара негодна становится. Очень тонкий продукт – свекла. Поэтому и производство серьезное необходимо; тут тебе и кузнечный, и токарный цеха, и даже вагранка – небольшая печка для переплавки чугуна, с горном, на угле и коксе работает.
Фильм "Кубанские казаки" снимали как раз в станице Курганинской, на узловой станции, через которую поезда идут на Армавир, к морю. Ну, и к нам, на станцию Лабинскую, промышленная ветка тянулась, даже не электрофицированная, поэтому бегал по ней старый сормовский паровозик.
Дедушка мой, Семен Пахомович, был очень уважаемым человеком на заводе. Он оказался начальником маленького кузнечного цеха, и в подчинении у него было четверо рабочих: два кузнеца и два молотобойца. Дед звал меня к себе, в молотобойцы, но я, как и планировал, пошел в токари. Вот работаю я учеником токаря, присматриваюсь к производству, прислушиваюсь к разговорам настоящих рабочих, мастеров. Узнал, что совсем недавно какая‑то умная головушка сообразила, как можно загрузить завод на все двенадцать месяцев работой. И по договору с Фиделем Кастро начали привозить к нам тростниковый сахар… Вы, дорогие читатели, уже, наверное, и не помните времен, когда у нас вместо традиционных джинсов шили так называемые брюки – техасы. Почему? Да потому что джинса линяла, а, следовательно, считалась некачественной. То же и с сахаром. Раньше коричневый сахар считался полуфабрикатом нетоварного вида, а сегодня диэтологи говорят, что он гораздо предпочтительнее классического очищенного.
Как начал наш паровозик привозить сахар в гладкобоких джутовых мешках, так и работы стало хоть отбавляй. Нужно было кубинский продукт промывать паром, превращать его в сироп, фильтровать, делать из него красивую белую массу, выпаривать и высушивать. Сахар приходил от Фиделя постоянно, вначале плыл на пароходе до Новороссийска, потом его развозили по железной дороге. А к нам он доставлялся нашим стареньким сормовским паровозиком – трудягой, той самой "сушкой", с красной звездой и большим прожектором на круглой передней панели дымовой коробки.
Вдруг выходит постановление партии и правительства об очередной компании по борьбе с пьянством и алкоголизмом. А Кубань по отношению к водке занимала особое специфическое место. С вином проблем не испытывали, потому что у каждого местного жителя был фруктовый сад, виноградничек, и в предгорьях полно фруктов да ягод – было из чего вино да чачу делать. Местное руководство на это смотрело сквозь пальцы, главное, считалось, что делают вино не на продажу, а для себя. Пиво тоже было, и коньяк – пожалуйста. А водки нет.
Коньяк считался напитком для начальников – у тех зарплата побольше и статус обязывает. Вино – для здорового мужика питье, прямо скажем, не серьезное. А с марта по октябрь – то посевная, то уборочная, водку в это время продавали с перебоями.
Рабочим сахарного завода постоянно хотелось мужского напитка, поэтому спиртное старались закупать, а на завод оно попадало через дырки в заборе. И шустрые бабушки потихоньку спекулировали возле заводской столовой, которая находилась за территорией предприятия.