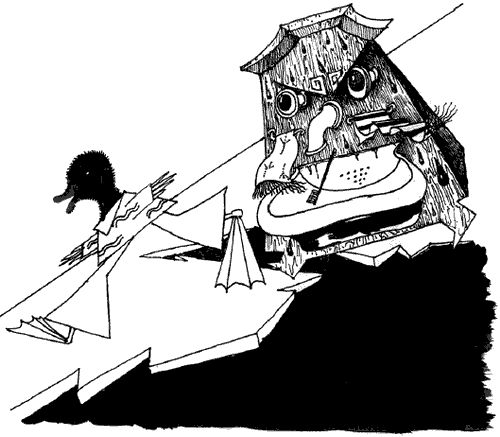
…ЧЕРНЫЙ ОТ САЖИ УТЕНОК, БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ ЛЬДИНЫ В БЕЛЫХ ШТАНАХ-КЛЕШ, И НАГОНЯЮЩИЙ ЕГО МОЙДОДЫР, С НОГ ДО ГОЛОВЫ ЗАБРЫЗГАННЫЙ МЕЛКИМИ КАПЕЛЬКАМИ КРОВИ…
Пройдя Гидрометеоцентр, мы сворачивали в Предтеченский. В простом переулке сквозь снежную пелену желтела церковь - иногда мы поднимались по ее полукруглым ступеням, осторожно прикасаясь к медным перилам, к которым наши пальцы слегка прилипали от холода. Внутри вершились богослужения, и им мы были лишь кратковременными свидетелями: мы видели спины поющих людей, мерцающие смальтовые своды, и лишь изредка, при случайном движении толпы, нам открывался далекий иконостас, этот роскошный золотой шкаф, из нижних отделений которого иногда выходили великодушные священники. За Предтеченским начинались какие-то переходы, мятый мирок двориков. Четкие направления улиц терялись, их затирали обреченные полуизбушки, уцелевшие в пазах и сгибах города остатки деревенской Москвы, - среди них встречался и один особняк с колоннами, скривившийся от омерзения к собственному упадку, как старик, сосущий лимон. Окружала его бревенчатая, неказистая дворня. На одном из окон висела голая курица, и нечто, совсем старое, но живое, укрытое пледами и платками, дремало на вросшем в снег табурете у гнилого крыльца. Проходя дальше по обледеневшим доскам, переброшенным через канавы и ямы, мы встречали уже совершенного мертвеца, анестезированного до сердцевины костей, нашего хорошего знакомого - то был бывший дворец пионеров, дитя сияющих тридцатых годов, пустой и великолепный. Ничто не умеет так величественно, так беззаветно дарить себя запустению, как вещи и постройки, предназначенные для детей. Длинная и прекрасная лестница, широкая, созданная для того, чтобы по ней сбегали к воде гирлянды и цепи смеющихся, ликующих, крепко взявшихся за руки детей, каскадами спускалась от дворца, черневшего своими выбитыми окнами, к бассейну, на дне которого лежал снег. Мы называли это место Храмом Пустого Бассейна. Людей здесь не было, только статуи - дети, серые, заплаканные, воздевающие к небу обломки горнов. Нам нравилось одно изваяние - девочка, чью юбку словно бы только что смял нетерпеливый ветер. Она смотрела прямо вперед, слегка прищурившись. Лицо было серьезное, решительное, но недоверчивое, впрочем, сомнение на этом лице вот-вот готово было растаять вместе с ледяной коркой, и ее рот, чья форма была простой и совершенной, как форма листа магнолии, был уже слегка смягчен улыбкой - улыбкой узнавания и участия. И затем только мы входили в тот маленький парк, который считался целью наших прогулок - сквер Павлика Морозова. Статуя юноши, чья фамилия свидетельствовала о том, что он тоже принадлежит к пантеону богов холода, совсем была облеплена почтительным снегом, и только красный шелковый галстук на его бронзовой шее светился гаснущим сигнальным фонариком в нарастающей белой пелене. Сразу за сквером громоздилось огромное здание. Мы добирались до этого здания, похожего на гигантское белое кресло, увенчанное золотыми часами, и оно-то и было границей, пределом наших прогулок, его страшным и величественным завершением - возле него, как сказано у Данте, "изнемогал вдруг стремительный взлет духа": здесь мы останавливались. Останавливались, чтобы не ступить ни шагу дальше. Останавливались, чтобы, взявшись за руки, смотреть вперед, как та гипсовая девочка - щурясь (снег крупными мягкими хлопьями застревал в наших ресницах), стоя с лицами, должно быть, изумленными и восхищенными, даже потрясенными, ибо то, что разверзалось там перед нашим взором, было немыслимо, непредставимо, пугающе и в то же время превосходно. Создавалось впечатление, что здесь проходит граница между крошечным, корявым мирком насекомых и колоссальным, шарообразным, ледяным миром гигантов. Здесь изменялась размерность. Это был порог, перепад размерностей. Сквозь белоснежную пелену проступали гигантические очертания Города - здания, столь далеко отстоящие друг от друга, разделенные столь пронзительно пустым и огромным пространством, но и сами столь огромные… Изгиб серой реки, мосты, туманный готический силуэт гостиницы "Украина". Небоскреб в виде приоткрытой книги… Город. Центр. Центр Государства. Центр Мира, похожий на пустой Тронный Зал, куда даже гиганты, для которых он был создан, не решаются заглянуть. И никто никогда не воссядет в этих колоссальных креслах-домах. И никто никогда не посмеет читать эти доверчиво приоткрытые дома-книги. И никто никогда не решится ответить улыбкой на колоссальные улыбки-здания, такие, как тающее вдали Полукруглое Здание, возвышающееся на крутом склоне над Ростовской набережной. Оно напоминает Скобу, одну из Скоб, удерживающих цельность этого космоса. Никто никогда не решится улыбнуться этим Скобам-Улыбкам в ответ. Но мы улыбались - знакомой улыбкой узнавания и участия, и нам казалось: вкус гипса и запах магнолий пробегают по нашим совершенным устам. Мы улыбались сдержанно, но уверенно, потому что знали - мы здесь свои, мы здесь - единственные свои, мы - порождения этой Великой Пустоты, держащей весь мир в рамках целительного ужаса. Отсюда, из этого места, миру придавалась его форма - форма яйца. Мы улыбались этому Величию и только - улыбались этой Пустоте и только - нашим маленьким ногам, обутым в облые валенки, не перешагнуть было той границы, которая отделяла скомканный, стесненный, лабиринтообразный микрокосм (в котором всегда ощущался недостаток вольного воздуха, и нам, двум девочкам, страдающим от астмы, это было известно наверняка) от этого расправленного, свободно и строго раскинувшегося в соответствии с благословенной Схемой макрокосмоса.
Возникало впечатление, что до этого мы шли не в городе, а в шкафу, по одной из его полок, пробираясь между мятых рецептов, сломанных ракеток, брошюр, среди слипшихся стопок старых журналов "Здоровье", пробираясь сквозь наслоения всего того, что живет бесформенной и цепкой жизнью, свойственной всему небольшому, отодвинутому, скученному, сквозь мирки, живущие тошнотворной и трогательной жизнью джунглей и политических оппозиций. И вот мы дошли до края полки этого шкафа и остановились на краю. И взглядам нашим открылась Комната, ее просторы, ее Зеркала, Троны, Столы…
Но то ли Стекло отделяет нас от этой Комнаты, то ли просто ужас падения удерживает нас на краю полки. А скорее всего и то, и другое: и Стекло, и ужас падения.
А, может быть, одна стена этой колоссальной Комнаты снесена словно бы взрывом, и сама Комната, как распахнутая ячейка секретера, открыта в сторону еще более огромного и необозримого пространства, но оттуда дует ветер и летит снег: белый, пухлый, слепящий, постепенно покрывая Зеркала, Троны, Столы, оседая на Стекле Шкафа, занося это Стекло своим пушистым покрывалом - так клетку с птицами милосердно накрывают шалью, чтобы ее обитатели успокоились в полутьме и наконец-то погрузились в сон…"
Мы закончили чтение. Клара Северная, Вольф и Княжко неподвижно сидели вокруг овального стола. Несмотря на длинноты и торможения нашего прозаического фрагмента, они не казались измученными. Видимо, они - все трое - вообще не слушали, а просто смотрели на нас, пока мы читали. Вольф и Княжко были влюблены в нас, поэтому им доставляло удовольствие следить за тем, как мы переворачиваем страницы, поправляем волосы, наблюдать за тем, как мы чередуем друг друга в деле чтения вслух. А Клара Северная когда-то, в течение довольно долгого времени, была любовницей нашего деда (о чем мы узнали утром того же самого дня, перебирая бумаги в дедовском кабинете) и, надо полагать, рассматривала нас с женским любопытством, как внучек одного своего любовника и как предмет обожания другого - если верно, что между нею и Княжко действительно имелась связь такого рода.
Наконец Клара произнесла несколько вкрадчиво:
- Девочки, вы сказали, что пишете в стиле Пруста. Не приходило ли вам в голову, что сам Пруст… его душа нашептывает вам эти описания?
- При чем тут душа? - удивились мы. - Это стилизация. Мы надеемся, качественная стилизация.
- Но зачем она, даже если она хороша? - спросила Клара. - Каковы ваши намерения? Ваши цели?
- Наши первоначальные намерения стали бы ясны, если бы роман был бы закончен. Но намерения наши изменились - мы решили не заканчивать его.
Наш роман "Дедушка пробормотал" мы собирались закончить фразой, которую дедушка якобы произнес во сне. Мы все не могли придумать эту фразу - дедушка никогда не говорил во сне: он спал крепко и бесшумно. Наконец мы попросили его самого придумать эту фразу. Был солнечный, морозный денек: дед и Егоров только что вернулись с лыжами из леса. Оба румяные, в толстых свитерах, облепленных снежными чешуйками, они шумно вносили свое снаряжение на террасу. Выслушав нашу просьбу, дед кивнул, прошел в комнату, стуча ботинками, которые казались подкованными. Он подошел к буфету, достал бутылку виски, налил две рюмки - себе и Егорову. Опрокинув рюмку, он промолвил: "Не выводите меня из себя".
- Мы и не выводим, - сказали мы.
- Не выводите меня из себя, - повторил дед, прищурившись. - Это и есть фраза. Считайте, что я пробормотал эту фразу сквозь сон.
И он одарил нас одной из своих усмешек. Наш дед был великим искусником по части усмешек: он умел усмехаться ноздрями, мочками ушей, затылком.
И потому, в соответствии с волей дедушки, наш роман должен был заканчиваться его словами "Не выводите меня из себя". Но об этом мы не собирались извещать Северную. К тому же имело ли все это хотя бы отдаленное отношение к "целям"? Скорее, то было одно из бесчисленных проявлений Бесцельности.