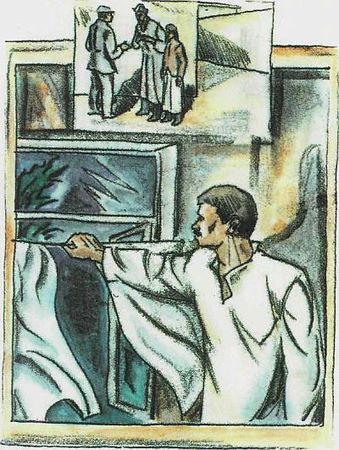
Мусульманина-бедняка необходимо оторвать от власти его богатых и от притяжения его духовенства, тут никаких разногласий быть не могло и тут-то и крылся едва ли не сердцевинный вопрос туркестанской революции. Но как? Неимущему горько и там, за Анхором, в Старом городе, и по иной судьбе и лучшей доле томятся и в маленьких, серо-желтых, тесно слепившихся друг с другом глинобитных кибитках, ибо всем временам и всем народам, какого бы ни исповедовали бога, было присуще, если не сознание, то подспудное, неизбывное чувство несправедливости, неверности и жестокосердости этого мира и этой жизни. Клевлеев явился в совершенной уверенности (запалил ею и Колесова), что знает вернейший и даже единственный путь… что в самые малые сроки создаст в республике мусульманскую Красную армию, покончит с эмиром и всю туземную бедноту повернет к Советской власти. Уверенность же свою объяснял до чрезвычайности любопытно, таким, примерно, образом: научно изучив Коран, говорил посланец Татаро-башкирского комитета Наркомнаца, равно как и все учение пророка, я убедился в социальной направленности его мысли. Таким образом, по его мнению, открывалась замечательная возможность использовать в благих целях выдержки из священного писания мусульман и тем самым - через религию - в необходимом направлении воздействовать на психологию и сознание массы. К примеру, в Коране ясно указано, что все богатые должны двенадцать с половиной процентов от своих доходов уделять бедным. Однако наши баи скорее умрут, чем отдадут беднякам хотя бы четверть процента своих баснословных прибылей! После молчания, по словам Клевлеева, неизменно наступающего в связи с такого рода убийственными вопросами, следовал немедленный, чисто политический вывод: богатство баев, добытое нечистым, неправомерным, хищническим путем, является незаконным и должно быть предоставлено в распоряжение бедноты, имеющей на него бесспорное право. Разумеется, признавал Клевлеев, подобные доводы с точки зрения Маркса не выдерживают никакой критики, однако они, во-первых, зажигают массу светлым чувством энтузиазма, а во-вторых, хоть и несколько иным путем, ведут все к той же притягательной цели. От него ждали многого, он ходил в именинниках, Полторацкий же, к раздражению Колесова, не скрывал сомнений. Отталкивало вот что. Революционное, чистейшее, тысячекратно кровью омытое дело должно быть безукоризненным и в средствах, любая фальшь, недомолвка, незначительная хитрость, уловка, подмена понятий, какими бы высокими побуждениями ни обосновывались, уже заключали в себе некую совершенно нетерпимую, неприемлемую червоточину, которая вполне могла безмерно опорочить само дело. Стремясь построить на правде и справедливости новое общество, никак нельзя ловчить, никак нельзя не выбирать средства, напротив, необходимо сугубо ограничивать себя, дабы дорогой ценой не платить за посеянное в сердцах сомнение. Справедливость, только она способна привлечь мусульманскую массу, как бы темна ни была она, справедливость во всем, в том числе и в таких насущных и сразу ощутимых вещах, как распределение хлеба, сахара, чая, мануфактуры… Прежняя власть с далеко идущим умыслом внушала поселившемуся в Туркестане русскому человеку чувство безусловного превосходства над мусульманином, превращала местного жителя в существо заведомо низшее, чьи стремления, надежды и помыслы совершенно не следовало принимать всерьез, а ведь ничто не впитывается с такой губительной легкостью, как ощущение собственной полпоценпости, основанное на порочном сознании неполноценности других. Вот что прежде всего надлежало вытравить, а не уповать на доводы, заимствованные из Корана, какой бы скорый успех ни сулили они. Относительно же Мухаммеда и его якобы натурального или природного коммунизма Касымходжаев, во всех правоверных тонкостях разбиравшийся не хуже муллы (медресе окончил в самой Бухаре), с явственной усмешкой шептал Полторацкому на ухо, что объявлять пророка коммунистом столь же нелепо, как, скажем, безоговорочно верить в чудесную операцию, произведенную Гавриилом над пророком, когда тому было три или четыре года, и состоявшую в том, что архангел, с великой бережностью уложив избранного мальчика на землю, без малейшей боли разъял ему грудь, вынул сердце и тщательно очистил его от всяческой скверны, удалив черные и горькие капли первородного греха, унаследованные от павшего праотца нашего Адама и даже самых достойных и лучших соблазняющие на поступки нечестия, неправды и беззакония. Если же говорить серьезно, прибавил Касымходжаев, то, во-первых, ислам означает преданность и самоотречение верующих, полностью предающих себя милости и гневу Аллаха, и, во-вторых, лишь в начале своего пути Мухаммед был одушевлен и даже одержим страстью к вечному и благочестивому; довольно скоро он становитсяпо преимуществу политиком, религиозную идею превратившим в средство государственного строительства и поддерживающим ее огнем имечом. Какой уж тут коммунизм!
- Ты это все ему втолкуй, - с усмешкой кивнул Полторацкий на Колесова и навлек на себя его негодующий взгляд. Клевлеев меж тем свое выступление закончил, Колесов захлопал ему нарочито громко и сизлишней уверенностью проговорил:
- Молодец!
Своим чередом шел митинг. Положение республики - такова была его повестка, надо сказать, довольно общая, отчего в выступлениях ощущалась изрядная мешанина. Юному студенчеству решительно предлагалось немедля откликнуться на призыв рабочих и крестьян и сдать вархив научной патологии пережитки мещанской и обывательской идеологии; шла речь о скопившихся в Туркестане огромных запасах хлопка, два миллиона пудов которого можно хоть завтра отправить в центр; поднимался на трибуну некий усталый человек н тихим голосом сообщал залу, что ничего светлого, а лишь одна тягость на душе, и под крики, что плакаться надо жене, которая утешит и приголубит, втянув голову, осторожно сходил со сцены; его сменил очень решительный, широкоплечий, в сапогах и кожаной кепке: "Те, - гремел он, с силой опуская на шаткую трибуну мощный кулак, - кто говорят, что Россия погибла, слишком плохого мнения о своем родном народе!". Затем комиссар ташкентской крепости Якименко с некоторым презрением обмолвился об учителях, назвав их "кокардами", после чего немедленно потребовал слова оказавшийся на митинге учитель и нервно проговорил:
- Я протестую против подобных инсинуаций… я работаю для демократии по восемнадцать часов в сутки… бесплатно! Разве я - не трудовой народ?! Я не один раз харкал кровью…
При этих словах зал взроптал, возмущение явно направлено было в Якименко, который в свое оправдание крикнул с места:
- Я против трудящихся учителей не пойду! Я знаю - учителя и интеллигенты когда-то впереди шли…
Была жалоба, всем залом поддержанная:
- Мелкая монета скрыта спекулянтами! Разменять крупные деньги невозможно! За размен тысячерублевки любители наживы берут огромную сумму в сто пятьдесят - двести рублей!
Колесов поднялся на сцену:
- Отвечаю! Выпуск туркестанских бон в самое близкое время будет увеличен.
- С Дутовым замиряться думаете? - крикнули из задних рядов. - Почему делегацию из мастерских к нему не послали?
- Никому не дано права заключать мир с казачеством, пока стоит на месте Советская власть! - звонко сказал Колесов. - Рабочие, которые сами же хотели твердой власти, не должны разбивать ее! Понятно, что вернувшиеся с фронта нервно-истрепанные товарищи вносят определенную смуту… но понятно и то, что рабочие намеренно вводятся в заблуждение!
- Неправда!
Полторацкий оглянулся. Сидевший рядом с Агаповым Попов, слесарь железнодорожных мастерских, коренастым телом подавшись на ходу вперед, быстро шел к сцене. Что-то говорил ему вслед Агапов, но Попов зло отмахнулся и, минуя ступеньки, вспрыгнул на сцену и, оказавшись рядом с Колесовым, повторил:
- Неправда! Никто не сбивает рабочих… Рабочие хотят знать - за что мы воюем с казачеством?!
- Не с казачеством… не с трудовым казачеством воюем мы, - крикнул в зал Колесов, - а с Дутовым, который морит нас голодом. Дутов враг, и его надо уничтожить!
- Задавим атамана! - спокойно пообещал кто-то, обладающий могучим басом, и тут же пронзительный вопль пронесся над залом:
- А кто истерзанную душу рабочего растравляет - проклятье тому!
Будто бы ветер минувшей ночи снова сорвался и прилетел в большой зал Дома Свободы, где с блестящими от пота лицами сидели в тусклом свете малочисленных ламп, в табачном сизом дыму, - такой вслед этому воплю пробежал по рядам ропот. Колесов поднял руку: ропот стих.
- Товарищи! Позвольте прочесть вам обращение к рабочим республики…
- Давай! - из зала ответили, и Колесов, достав из кармана несколько сложенных пополам листков, развернул их и торжественно начал: