ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧЕШСКОГО ГОСУДАРСТВА
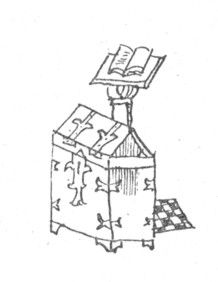

РАССВЕТ

Во времена Святополка в стране, ограниченной Шумавой, лесами Крушных гор и Судетским горным массивом, жили славянские племена. По нижнему и среднему течению реки Огры селились лучане, к западу от них было место седличан, в крае, позднее названном Хебским, сидело хбанское племя; далее на север жили дечане, лемузы и литомеричи; а еще дальше, в краю Болеславском - пшоване. Северо-восточные пространства были уделом хорватского племени, юг принадлежал дулебам, а меж ними жили люди, называвшие себя зличанами. Но ядро, но середина той страны отдана была чехам, которые впоследствии сумели поставить братские племена в зависимость от себя и объединить их.
В древности племена редко вступали в добровольные союзы. Властвовали над ними князья, и эти князья стремились расширить свою власть войной и коварством; они нападали друг на друга и боролись между собой. Раздоры разъединяли их, и только победа пробивала дорогу из края в край. В жажде сражений ходили племена в походы по дремучим лесам или вдоль рек, которым тесно было в их руслах; ходили и походами к границам селений, спускались к равнинам с гор, с низин поднимались на холмы, и вели их пути от края леса к его середине или из темных чащоб к лугам, где широко разлились озера. Так каждое племя ходило из своих владений к владеньям другого, чтоб насладиться победой и возвысить могущество своего рода.
В те военные времена шум битв разносился по лесам, В те безжалостные времена победителям навечно отдавалась свобода тех, кто попадал в плен, и всадники перегоняли с места на место стада рабов. Тут можно было видеть мужчин, женщин и жалких стариков, падавших под тяжестью зерна и добра, когда-то принадлежавших им самим; так, падая, шли они к городищам своих господ. Там их уделом становились горе, лишения и боль, и ни одной утехи не насчитывалось во все их дни. Засыпали в тревоге, а едва намечался рассвет, их гнали рыть колодцы, и возделывать пустоши, и корчевать лес. Иной раз, когда вновь племя поднималось на племя, невольников понуждали идти в бой и биться за своих господ. Так рабским трудом и грабительством возрастало в одной стороне могущество чешских князей, в другой же усиливалась власть рода Славника, повелевающего зличанами. Оба рода держались дедовских обычаев. Страсти кипели в их сердцах, хотя ведомо было им учение о любви, которое князь чехов Боривой принял от архиепископа Мефодия. Некоторые высшие люди чешские уже тогда крестились, да и знатные семьи прочих родов легко уживались по крайней мере с наружным принятием веры Христовой. Они признали единого Бога, но оставались язычниками, если говорить об образе мыслей и действий. Так без пользы слушали они слова Евангелия, но жили по-прежнему как варвары: племя воевало с племенем, род с родом, князья и сыновья одного отца соперничали друг с другом. Сила была им судиею, и меч был их правом.
Отблеск подобных страстей озарял и чело князя Братислава, сына Боривоя. Он властвовал в середине земли, там, где жило племя чехов. Войною увеличивал Вратислав свои владения; умножал свое могущество и хитростью, и дружеским обиходом, и семейными связями. Когда он умер, княжескую власть захватила супруга его Драгомира. Правила она за малолетнего сына по имени Вацлав.
Вацлав был мальчик сильнее и красивее прочих. В латинских религиозных легендах сохранилось, что дух Вацлава, как бы предвещая будущее, с ранних лет устремлялся к смирению, к любви и прощению. В других же книгах записано, что жил он в простоте, был похож на своих братьев и, как человек, живо радовался человеческим радостям и не чужд был проступков. Как водится, и ему, видно, дьявол ставил на пути соблазны и, как водится, и ему наносили раны грехи, и он вынужден был следовать обычаям своего времени и своей страны. Однако повествования, в достоверность которых верили очень многие, изображают Вацлава неуклонно, с отрочества до самой его мученической кончины, поднимавшимся к вратам святости. Златые волны легенд сопровождали его шаги. Стремление к миру, жажда Божьего мира витают над его головой, и никакими словами не выразить сияния, коего он удостоен.
Когда Вацлав был малым ребенком и княжеством Чешским правила Драгомира, в Немецкой земле сел на трон Генрих, первый этого имени. Король тот слыл человеком твердой воли и самоуверенности. Он славился отвагой, признавал только силу и желал расширить владения свои за счет правого берега Лабы.
Но в те поры на Немецкую землю совершали наезды венгры, и королю приходилось стоять с войсками на границах между востоком и югом, чтобы защитить свою страну. Венгерские набеги мешали Генриху исполнить задуманное и приуменьшали его славу. Однако желание завоевать восточные пределы было у него сильнее гордости, - и король купил перемирие с венграми за ежегодную дань. И со всеми своими силами двинулся к Лабе.
В тех краях, от моря до Лабы и далее к реке Заале и к пограничным горам будущей Чехии, жили многие славянские племена. Наиболее воинственными, наиболее одаренными храбрыми сердцами были лютичи, особенно самая крупная ветвь их - стодоране. Они никогда не отступали в бою и строго блюли свои обычаи.
Случилось так, что женщина этого племени соединилась браком с Вратиславом, чешским князем, и родился у нее от этого брака Вацлав, удостоенный святой памяти. Женщиной этой и была Драгомира, Княгиня войны, владычица битв и отпора, она дышала местью.
Уже в первый год ее правления Генрих закончил тщательные приготовления, с великими расходами и с великим усердием создал войско, какому не было равных, если говорить о стройности боевых порядков. Вскоре, взвесив и обозрев свою силу, король ударил по западной границе славян.
Войско его переправилось на правый берег Лабы там, где она широко разливается, и, не теряя порядка, внушенного привычкой и упражнениями, вторглось в Славянские земли. Скоро сказались действия неприятеля! Можно было видеть горящие селения, можно было видеть младенцев на груди у мертвых матерей, бездыханные тела пастухов, охотников и пахарей - смерть настигла их в момент, когда они отбросили прочь пастушеский посох или соху. Рядом с безоружными лежали грудами мертвые воины, и гнев навечно запечатлел выражение ужаса на их лицах или замах руки, готовой ударить.
Все были перебиты - в ту войну в плен брала только смерть.
Когда Драгомира услышала об истреблении своего народа, велела она стучать мечом о меч и послала воинов по жилищам людей с призывом к смелым мужам: - Княгиня бросает клич, княгиня велит оставить стада, и охоту, и работы в полях и собираться, взяв копья и мечи! Берите тех, кто служит вам в рабстве и подданстве, берите всех, пускай все собираются в полки и двинутся на врага, ибо княгиня объявляет войну!
Весть об этом решении Драгомиры донеслась до советников и старших людей из окружения вдовы князя Боривоя, которая трудами Мефодия удостоена была святого крещения. То была старая княгиня Людмила. И как в сердце снохи ее, Драгомиры, жила боевая отвага, так в Людмилиной душе взросло семя смирения и твердой веры в мир. Рассказывают - в старости своей она много времени проводила на коленях, молясь о том, чтобы король Генрих отнесся к ее роду с христианским милосердием.
Так повествует о Людмиле предание, но те, кто внимательно вглядывается в натуру тогдашних людей, видят княгиню иначе: видят Людмилу, обуреваемую пылкими страстями, и считают, что по силе добрых чувств и ненависти была она сестрой Драгомире.
Из этих противных мнений ясно одно, а именно - гневались они друг на дружку: Драгомира ненавидела свекровь, и Людмила платила ей той же монетой. Она срывала все ее замыслы, стояла против войны с немцами, и легче ей было принять волю Генриха, чем победу Драгомиры.
Советники Людмилы, пребывающие в Чешской земле выходцы из Германии, взяли в этом споре сторону Людмилы. Им было на руку, что одна княгиня враждует с другой, и они еще более раздували распри. Когда стал известен замысел Драгомиры, они подняли голос против похода и воспротивились велениям правящей княгини.
Однажды собрала Людмила этих недовольных чужеземцев и поехала с ними к Драгомире, чтобы совместно обсудить военные приготовления и попытаться воспрепятствовать им. Первый немецкий прелат так говорил перед властительницей:
- Драгомира ввязывается в борьбу и строит козни против короля, мешая его трудам, внушенным ему Господом: ибо христианское войско Генриха призвано сразиться с язычниками и внести крест в те рощи, где до сих пор стоят капища Святовида. Если это так, что предпринять нам? Что иное можем мы посоветовать, как не то, чтобы она обуздала безумное желание помочь им и дала свершиться Божьей каре!
После первого прелата выходили второй и третий, и все твердили:
- Пусть Драгомира перестанет призывать к войне! Пусть утихнет! Да умолкнет глас, зовущий на помощь, ибо негоже помогать язычникам против меча христианского короля!
Но Драгомира подобных советов не слушала. Ее обуревал гнев. Ненависть и жажда отмщения приложили ладони к ее вискам, оглушив ее. Ни слова не слышала она из мирных советов или похвал королю Генриху; а первому немецкому прелату отвечала властительным тоном.
Тогда тот возразил: