Преодолевая, переживая "подготовительную жизнь", человек ничего не может испытывать, кроме ощущения тяжести повседневного существования, и лишь одно желание в его душе – чтобы время текло быстрее. И он прикладывает максимум усилий, дабы ускорить ход времени. К сожалению, а может быть, и к счастью, – кто знает? – физическое время человеку неподвластно. Поэтому надо сократить время на этапы прохождения пути, отведенного на подготовку к "подлинной жизни".
Для этих случаев и придуманы людьми школы особо одаренных, экстернат, раннее поступление в вузы, ранние женитьбы и т. д. и т. п. Русская сказка заканчивается свадебным пиром: "По усам текло, а в рот не попало". А далее? А далее – ничего. Но возможны варианты.
Нарисуем схему. Представим время "целостной жизни" в качестве отрезка и поделим этот отрезок на две части: время "подготовительной жизни" и время "настоящей жизни".

Время настоящей жизни может быть значительно больше, чем время подготовительной жизни. Только тогда есть смысл готовиться к настоящей жизни, если затраты на эту подготовку окупаются, и личности дается срок для работы в музыкальном оркестре больший, нежели на обучение музыкальному исполнительскому искусству.
Другое дело: всю жизнь готовиться к подвигу. К слову – возможностей для разового героического деяния может и не представиться. Можно "век жить – век учиться", если нет других забот. "Дураком помрешь" – продолжает неизвестный русский гений.
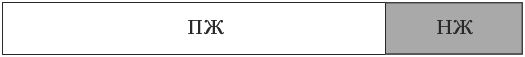
Каково воздаяние за потраченные усилия по достижению мирового рекорда? Чем компенсируется непрожитое, но утраченное время – единственная абсолютная ценность?
Вопрос о компенсации отложим на потом. "Подготовительной жизни" может и не быть, и сразу человек погружается в "жизнь настоящую".
И, наконец, вся жизнь может стать подготовкой к себе самой и до конца исчерпать человеческие силы и время. Тогда нас ожидает впереди (точнее – в конце) лишь отчаяние. Поэтому и придумана "жизнь после смерти". Иначе подготовка никак не оправдана. Жизнь как подготовка к подлинной жизни – метафора, применимая к существованию детей и подростков, т. е. всех, кого по различным причинам не пропускают в "настоящую жизнь". Поэтому субъективное отношение к жизни как подготовке к чему-то "подлинному", "настоящему" следует считать компонентом детского или подросткового мироощущения. Причем это ощущение может осознаваться или не осознаваться. Не сам ребенок формирует такое представление о жизни. Конечно, объективно к взрослой жизни он не готов. Эта неготовность к исполнению "серьезных, взрослых обязанностей" и является источником чувства неполноценности, по А. Адлеру. Но ребенок может не подозревать о наличии таких требований в том случае, если взрослые никаких претензий к нему не предъявляют и не подчеркивают в общении никаких различий (в свою пользу) между собой и ребенком.
Кроме того, будущее может представляться ребенку как прекрасным, так и ужасным. Какое чувство будущего сформируется у ребенка, зависит от взрослых. Метафора "золотого детства" не способствует развитию представлений о будущем как о сверхзначимом и светлом. Скорее наоборот, "взрослая жизнь" будет выглядеть скопищем бед, болезней, трудов и забот после безоблачной и безмятежной поры. "Подлинная жизнь" должна рисоваться значительной, полной необычных возможностей и перспектив, красочной, чтобы к ней стремиться и преодолевать тяготы и лишения (как об этом пишется в военной присяге) "подготовительной жизни": "Терпи, казак, – атаманом будешь!" Должен терпеть "салага" – солдат первого года службы, чтобы стать "дембелем"; должен терпеть школьник, чтобы стать выпускником. Аспирант должен переносить бездарность научного руководителя и тупость ученых советов, а чиновник – самодурство начальника, чтобы, став через какое-то время доктором наук, министром, генералом, президентом компании и т. д. и т. п., почувствовать свободу и прелести "настоящей жизни".
Очевидно, формирование представления о жизни как подготовке к чему-то будущему – подлинному происходит в раннем детстве и под влиянием определенной системы воспитания.
Обратимся к классификации типов отношений родителей и детей в истории. Автором классификации является известный психоаналитик Ллойд де Моз.
Представление о детстве как периоде подготовки к взрослой жизни появляется не раньше, чем с конца XIV до начала XVII в. До этого этапа родители, по мнению Л. де Моза, не следовали определенной обязанности по воспитанию детей. Часты были отказы от ребенка. Его отправляли к кормилице, в монастырь, в чужую семью. Ребенок считался носителем зла, которого надо бить, чтобы искоренить в нем зло.
И только в конце XVI в. возникает представление о том, что из ребенка, как из воска, надо вылепить взрослого, придав ему должную форму (Дж. Локк). Появляются первые руководства по воспитанию детей. Распространяется культ Девы Марии и младенца Иисуса. К началу XVIII в. в европейской культуре возникает "навязывающий стиль" отношения родителей и детей. Задача родителей состояла в том, чтобы обрести власть над умом детей и контролировать их влечения, эмоции и волю. Детей не заставляют, а уговаривают, бьют, но не систематически, а заставляют повиноваться, прибегая к словесным угрозам или увещеваниям.
Но формирование представления о детской жизни как подготовке к "жизни взрослой" следует отнести к XIX в. Стиль отношений родителей и детей XIX – середины XX в. де Моз характеризует как "социализирующий". Ребенка учат приспосабливаться к жизни, овладевать знаниями и навыками, пригодными для будущего. Отцы чаще интересуются своими детьми и даже освобождают матерей от хлопот, связанных с воспитанием. Как правило, именно отец является главным транслятором ценностей культуры и образцом для подражания.
В начале XVIII в. начальное образование становится обязательным. К концу XIX – началу XX в. закон об обязательном начальном образовании приняли все европейские страны. XX в. в России стал не только веком катастроф, но и "эрой образования": обязательное неполное среднее, а затем и обязательное среднее образование стало естественным. Но недалек день, когда нормой станет высшее образование. К этому приближаются ведущие страны мира.
С возрастанием максимально необходимого для "настоящей жизни" багажа культуры, с усложнением профессиональных навыков и увеличением системы знаний срок "подготовки к жизни" удлиняется. Способности человека как вида вряд ли изменились с эпохи неолита.
Стало общим местом научное положение о невиданном в животном мире продолжительном периоде "детства" человеческого индивида.
Удлинение периода детства по отношению к времени всего жизненного цикла целесообразно: увеличивается возможность обучения и приобретения нужных знаний, умений и навыков для полноценной жизнедеятельности в обществе.
Но в ходе исторического развития человечества увеличивается и социальное время, отводимое обществом на социализацию.
Изобретена сложнейшая система организации периода ученичества и воздвигнуты многочисленные барьеры, препятствующие включению личности в жизнь общества. Жестко ограничивается возраст, по достижении которого индивид получает права на работу по найму, на вождение автомобиля, покупку спиртного и сигарет, участие в гражданской жизни и т. д. Но главное – определяются требования к уровню квалификации, подтвержденной документом.
Система отбора на работу формализуется. Знаменитая фраза М. Салтыкова-Щедрина: "Русский человек состоит из души, тела и бумаг" применима сегодня не только к русскому человеку, но и к любому жителю планеты Земля или, по крайней мере, – "цивилизованного мира".
По мере развития цивилизации срок вступления в подлинную жизнь все дальше отодвигается от даты рождения к старости.
Система социального продвижения личности создана для того, чтобы скомпенсировать биологическую инволюцию его как организма. Чем ближе человек к старости, тем больше у него должно быть социальных возможностей, иначе жизнь становится невыносимой, а болезни и годы делают свое дело.
Оптимальное сочетание психофизиологических и социальных возможностей для самореализации сегодня приходится на возраст 35–45 лет (возраст "акме"). Но человека подводит психофизиологический фундамент, а социальная конкуренция вкупе с недостатком способностей и компетенции часто приводят к задержке или краху карьеры. Социальная компенсация – расширение возможностей с продвижением по лестнице общественной иерархии – не срабатывает.
Как правило, люди старших возрастов занимают доминирующие позиции в общественной структуре. Эта тенденция тем более выражена, чем более консервативным и нединамичным является общество. Достаточно вспомнить "геронтократию" в СССР эпохи застоя.
Никто не желает лишиться социальных возможностей, потому "старшие" прибегают к возможным ухищрениям и даже к прямому насилию, дабы не допустить молодую поросль "наверх". Главное средство для этого: искусственно затянуть период "преджизни".
Бунт молодых середины 1960-х гг. против "власти стариков", потрясший Западную Европу и Северную Америку, не был обусловлен только дурным воспитанием и молодежной жаждой бунта.