Отсюда, из внятно продуманных на всех уровнях построений, и извлекались Бодлером наметки тех способов словесно-стиховой работы, которые он сам обозначал как "магические" – как "намекающе-окликающую ворожбу". Существо "магического колдования" лирика в том, чтобы закрепить на бумаге – и тем создать для всех других возможность испытать – "празднества мозга". Они наступают, когда мыс ленно преодолена расщепленность бытия на природу и личность, вещи и дух, внешнее и внутреннее – когда "объект и субъект, мир, окружающий художника, и сам художник совместились в одно". Но подобные состояния "благодати" – редкие переживания собственной непосредственной подключенности к родникам вселенской жизни – "несказáнны" в том смысле, что они упорно ускользают от прямых описаний и рассудочных объяснений. Зато их можно окольно подсказать, внушить, навеять. Намекающее, "ворожащее", суггестивное письмо, которое бы чародействовало, пробуждая, подобно музыке или живописи, бесконечную взаимоперекличку непроизвольных отзывов в самых разных ответвлениях нашей чувствительности, и вводится Бодлером впервые столь широко в чересчур дискурсивную стихотворную куль туру Франции, издавна страдавшую от головной "логистики".
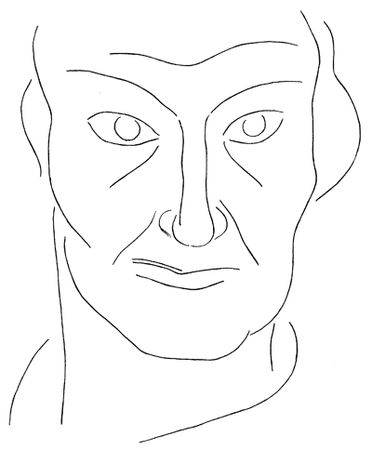
Шарль Бодлер. Рисунок Анри Матисса. 1932
Избранник "королевы способностей" и потому обладатель незаурядной миропостигающей проницательности, не только не притуплённой из-за отказа следовать аристотелевским природоподражательным заветам, а, наоборот, резко воз росшей до умения распознать где-то за вещами первоосновы мироздания и "ворожаще" намекнуть на их строй своим повинующимся разуму "Глаголом", – такова в конечном счете модель бодлеровского самоопределения.
"Цветы Зла" Бодлера вышли впервые в 1857 г. и были составлены из вещей, писавшихся и выборочно печатавших ся им на протяжении полутора десятка лет. Но это собрание было выстроено так, чтобы смотреться как единая книга скитаний души мятущейся, страждущей посреди жизненной распутицы, где злое и больное (французское le mal сочетает оба эти значения) разлито повсюду, гнездится и внутри сердец.
Охранительное благомыслие бонапартистской Франции сразу же усмотрело посягательство на устои добродетели в беспощадно трагичной правде об этом двойном грехопадении – "предзакатного" века и самой личности. Последовало судебное разбирательство, как и в случае с "Госпожой Бовари" Флобера; шесть пьес из "Цветов Зла" были признаны "безнравственными", подлежали по приговору (официально отменен только в 1949 г.) изъятию из книги, и на нее впредь до этой "чистки" налагается запрет. Бодлер не смог включить их и в следующее, расширенное, кое в чем перестроенное издание "Цветов Зла" (1861). Он про должал работать над книгой и позже, готовя третье, снова дополненное ее издание, увидевшее свет посмертно, в 1868 г. Что же касается исключенных стихотворений, то они образовали часть книжечки, выпущенной в 1866 г. полуподпольно и озаглавленной с вызовом уязвленного – "Обломки".
"В эту жестокую книгу, – писал Бодлер о "Цветах Зла" за год до смерти одному из знакомых, как бы отмежевываясь задним числом от иных ее "парнасских вкраплений" (вроде "Гимна Красоте"), – я вложил все мое сердце, всю нежность, всю веру (вывернутую наизнанку), всю мою ненависть. Конечно, я стану утверждать обратное, клясться всеми богами, будто это книга чистого искусства, кривлянья, фокусничества; и я солгу, как ярмарочный зубодер".
Предпосылка действительно жестокой в своей бестре петной честности и крайне разнородной по своему составу бодлеровской исповедальности не просто в невиданно откровенном, "как на духу", обнажении всего, что у него на сердце, но и в другом взгляде на человеческую личность, чем у непосредственных предшественников Бодлера из поколения Гюго, чтимых им и одновременно оспариваемых.
Признания этих "сыновей века" бывали и доверительно искренними, и удрученными, однако источник дурного, повергающего в скорбь, порочного помещался ими неизменно где-то вовне – в неблагосклонных обстоятельствах, убожестве обстановки, во враждебной злокозненности судеб. Потомок "сыновей века", пошедший по стопам своих отцов куда дальше и потому первый из "сыновей конца века" во Франции, Бодлер с усугубленной ранимостью, каждой клеточкой души и тела испытывает гнет неладно устроенной жизни, где он сам, носитель редкого дара, обречен на окаянное отщепенство в семье ("Благословение"), в пошлой толпе ("Альбатрос"), в потоке истории ("Маяки"). Облегчение он находит лишь в том, чтобы обратить в горделивую доблесть доставшийся ему роковой жребий, истолковать свое "проклятье" как крещение в избраннической купели, предписав себе неукоснительный долг свидетельствовать от лица "каинова отродья" – всех отверженных и обездоленных, всех
…кто не знает иного удела,
Как оплакивать то, что ушло навсегда,
И кого милосердной волчицей пригрела,
Чью сиротскую жизнь иссушила беда.
И душа моя с вами блуждает в тумане,
В рог трубит моя память, и плачет мой стих
О матросах, забытых в глухом океане,
О бездомных, о пленных – о многих других…"Лебедь". Перевод В. Левика
И все-таки вертеровски-байронический разрыв Я и окружающего, ценностная разнозаряженность, с одной стороны, самосознания, раньше неколебимо уверенного в собственной духовной правоте-чистоте, а с другой – неблагополучного миропорядка у Бодлера дополняются их зеркальностью, тесной сообщаемостью, взаимопроникновением. В потаенных толщах души, дотоле обычно однородной и всегда равной самой себе, Бодлер обнаруживает неустранимую двуполюсность, совмещение вроде бы несовместимого, брожение непохожих друг на друга задатков и свойств, легко перерождающихся в свою противоположность. С первых же строк пролога к "Цветам Зла", бросая вызов расхожим самообольщениям и для этого намеренно делая крен в сторону саморазоблачения, он приглашает всякого, кто возьмет в руки его книгу, честно узнать себя в ее нелицеприятной исповеди:
Глупость, грех, беззаконный законный разбой
Растлевают нас, точат и душу и тело.
И, как нищие – вшей, мы всю жизнь, отупело,
Угрызения совести кормим собой.Перевод В. Левика
Дальше, прослеживая от раздела к разделу "Цветов Зла" ("Сплин и идеал", "Парижские картины", "Вино", "Цветы Зла", "Мятеж", "Смерть") мытарства взыскующего "духовной зари" в разных кругах повседневного ада, складывающиеся в одно долгое странствие по жизни навстречу избавительнице-смерти, Бодлер постарается частично выправить первоначальный перекос. "Сатанинское" он посильно оттенит "ангельским", наваждения "сплина" – томлением по "идеалу", ущербное – окрыляющим, провалы в отчаяние и отвращение ко всему на свете, включая себя:
Я затерянный склеп, где во мраке и гнили
Черви гложут моих мертвецов дорогих,
Копошась точно совесть в потемках глухих, –"Сплин". Перевод В. Левика
просветленно-порывистыми взлетами, пусть редкими и краткими:
Я в музыку порой иду, как в океан,
Пленительный, опасный –
Чтоб устремить ладью сквозь морок и туман
К звезде своей неясной."Музыка". Перевод А. Эфрон
Сколь бы противоположны ни были, однако, иные ипостаси Бодлера-лирика, колеблющегося между двумя крайностями: "ужасом жизни и восторгом жизни", – они всегда не просто взаимоотталкиваются, но и взаимопревращаются. Головокружительная бездонность человеческого сердца ("Человек и море") и теснейшее соседство, сцепление, своего рода "оборотничество" в нем благодатного и опустошающе-греховного ("Голос") – ключевые посылки бодлеровской самоаналитики, обеспечивающей "Цветам Зла", вопреки всем толкам о "клевете" на род людской, восходящим к прокурорскому обвинению книги в 1857 г., значение непреходящего лирического открытия.
Здесь, в самом подходе к личности как множественно-подвижной "протеистической" совокупности, коренятся и причины исключительного богатства, глубины, разноликости любовной лирики Бодлера. Между молитвенным благоговением:
Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной,
И ты, о сердце, ты, поникшее без сил,
Ей, самой милой, самой доброй, самой нежной,
Чей взор божественный тебя вдруг воскресил?– Ей славу будем петь, живя и умирая,
И с гордостью во всем повиноваться ей.
Духовна плоть ее, в ней ароматы рая,
И взгляд ее струит свет неземных лучей, –