Не знаю, что уготовано мне свыше, куда занесет меня судьба в будущем… Но почему-то, когда я пытаюсь заглянуть в него, я тут же вспоминаю людные улицы Стрелсау или мрачные крепостные стены замка Зенда. Так блуждаю я в мыслях от прошлого к будущему. Я вспоминаю о неуемном пиршестве с королем, о своем чайном столике (с тех пор, как он спас мне жизнь, я испытываю редкостную нежность ко всем чайным столам на свете), о ночи, проведенной во рву, и о лесной погоне за Рупертом Хенцау. Перед моим мысленным взором проходят лица друзей и врагов. Первые и поныне, благодарение Богу, живы и здравствуют, среди вторых живым остался лишь Руперт Хенцау. Я не знаю, где он и что с ним. Но не сомневаюсь: если только ноги носят его еще по земле, он занят недобрыми делами. Вспоминая об этом юноше, я невольно сжимаю кулаки, сердце мое начинает биться сильнее, а предчувствие какой-то крупной схватки, в которой мне еще придется показать себя, становится отчетливее прежнего. Вот почему, несмотря на праздное свое существование, я и не думаю распускаться. Я ежедневно упражняюсь в стрельбе и фехтовании, стараюсь сохранить подвижность и силу. Так я по возможности отдаляю тот день, когда юношеская энергия покинет меня.
Но каждый год наступает день, когда моей размеренной жизни приходит конец. Я сажусь в поезд и доезжаю до Дрездена. Там ждет меня милый мой друг Фриц фон Тарленхайм. В последний раз вместе с ним приезжала Хельга и их прелестная маленькая дочь.
За ту неделю, что мы проводим вместе с Фрицем, он успевает рассказать мне обо всех новостях в Стрелсау. В эту неделю мы очень мало спим. После ужина мы закуриваем сигары и говорим о Сапте, о короле, а иногда и вспоминаем об отчаянном головорезе Руперте. И лишь когда ночь сменяется рассветными сумерками, мы заговариваем о Флавии. Каждый год Фриц привозит мне шкатулку. Я открываю ее и достаю красную розу. Стебель цветка обернут бумажной лентой, а на ней надпись: "Рудольф - Флавия - навеки". А когда Фриц уезжает, он увозит в Стрелсау точно такую же посылку от меня. Эти посылки да еще кольца, которые мы с Флавией никогда не снимаем, - вот все, что связывает королеву Руритании и меня.
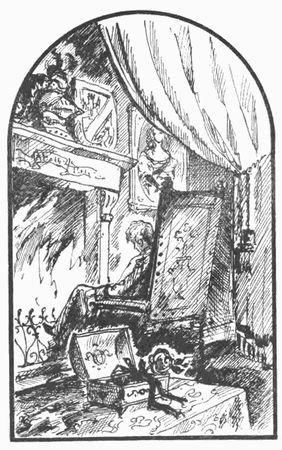
Она исполнила свой долг перед родиной и вышла замуж за короле. Я ценю ее мужество. Она возвысила короля в глазах подданных, и в стране воцарились мир и покой. Порой ее поступок приводит меня в отчаяние, порой я оказываюсь в силах возвыситься до нее. В такие минуты я благодарю Бога за то, что Он послал мне любовь самой красивой и самой благородной женщины на свете, и за то, что Он дал мне силы, и я не помешал ей исполнить свой долг.
Увижу ли я когда-нибудь еще свою Флавию? Боюсь, если не произойдет чуда, в этом мире нам уже не суждено встретиться. Мне остается надеяться лишь на то, что в мире ином Господь отведет нашим сердцам уединенную обитель, где никто уже не сможет помешать нашей любви. Ну, а если и это невозможно, я постараюсь дожить свой век так, чтобы Флавии никогда не пришлось стыдиться меня, и молить Бога о вечном сне, который положит конец моим земным мытарствам.
Н. Л. Трауберг
Размышления для родителей
…а мы мальчишками были.
В самом разгаре "конца века" (тогда - XIX-го) появился роман о маленьком государстве по имени Руритания. Написал его молодой законовед, окончивший Оксфорд, Энтони Хоуп Хоукинс. Вышел роман в мае 1894 года и очень всем понравился, буквально всем, соединив такие крайности, как изысканная "элита" (слово это, даже в кавычках, не совсем удобно писать) и потребители сентиментальных романов "про светских людей".
Конечно, книга не стала одним из "грошовых романов", которые в Англии назывались "penny dreadfuls", а в Америке - "dime novels". Еще неизвестный и измученный духом времени Честертон, совсем уж молодой, на одиннадцать лет моложе Хоупа, сохранил навсегда ту радость, которую принес ему "Узник замка Зенда". Он и его друзья вообще устали и от высокомерия, и от уныния, и от цинизма.
Через четырнадцать лет, в посвящении, из которого мы взяли эпиграф, Честертон писал, что в девяностых годах "люди гордились подлостью", "…стыдились совести", "…развратничали без радости, трусили без стыда". Нетрудно представить, какой подарок - роман, где герой не трусит, совести - не стыдится, а уж тем более не развратничает.
Таких героев Честертон и его друзья искали у Стивенсона. Заметим и напомним, что Стивенсон для англичан, особенно - тогдашних - совсем не мальчишеский писатель. Они высоко чтили и, наверное, чтут удивительное исследование поистине дьявольской души во "Владельце Баллантрэ", любили (и, наверное, любят) пока неизвестные у нас повести. Как-никак в сонете на смерть Честертона монсиньор Роланд Нокс говорит, что Стивенсон "в сердце человеческом читал", словом, этот писатель для молодых людей был мудрым, благородным, исполненным дерзновения, - но все же уныния и цинизма совсем перевесить не мог, - чего-то тут не хватало. Тогда двадцатилетний Честертон и прочитал книгу Хоупа - именно двадцатилетний, ему и исполнилось двадцать тоже в мае - и полюбил ее на всю жизнь.
Многие ее полюбили. Это была романтическая повесть, породившая сразу особую разновидность, так и называвшуюся "руританской" ("Ruritarian romance"). И сам Хоуп, и его подражатели стали писать и печатать такие и похожие романы.
Через несколько десятилетий Толкин сказал, что очень хорошие книги, написанные для взрослых, переходят к подросткам и детям, как переходит в детскую немодная мебель. Это случилось и с "Гулливером", и с "Робинзоном", и даже, в какой-то мере, с "Дон-Кихотом".
Энтони Хоуп так высоко не замахивался, и его роману было еще легче перейти к подросткам. Сейчас не очень легко представить, что взрослые всерьез читали его - хотя нет, смотря какие взрослые. Чем проще душой человек, тем проще ему восхищаться этим рыцарским романом. Да, все дерутся, кого-то убивают - но ведь давно описано и известно, что смерть в таком жанре - не смерть, падают и умирают не люди, а куклы, карты, знаки добра и зла. Подлость и доблесть четко разделены, любовь - идеальна, герой - именно герой, в прямом смысле этого слова.
Хорошо об этом читать и так видеть в конце нового, несравненно худшего века; только и опасность больше, ведь черно-белый мир в настораживающей близости к сомнительным, а то и просто страшным раскладкам массовых культур и тоталитарных обществ.
Ничего не поделаешь, здесь, как и везде - Сцилла и Харибда. Чуть пережмешь в одну сторону - и радуешься словам "…нет места подвигу". Пережмешь в другую - и ужасаешься тому самому духу, который жить не давал молодому Честертону. Проверка одна: милость. Не "доброта", чего только ею не назовут, а именно то расположение души, тот сплав императивов и запретов, который обозначается только что написанным словом. В таком двухмерном пространстве, как повесть Энтони Хоупа, эта сверхдрагоценная добродетель, несомненно, есть.
Ни эту книгу, ни другие - "Сердце принцессы Озры" (1896), "Саймон Дэл" (1897) - просто нельзя превратить в апологию силы. И смотрите, к милости тут же прибавятся еще две совсем не брутальные добродетели. Первая - смирение. Стыдновато радоваться такой повести, это ведь даже не Честертон, даже не Стивенсон (теми тоже особенно не погордишься), просто кукольный театр какой-то. Вторая - надежда. Провиденциальная шутка одарила сэра Энтони Хоукинса странным вторым именем "Хоуп". Его он взял псевдонимом и превратил в фамилию.
И одна из недавних статей о нем эту шутку обыгрывает в самом названии, которое приблизительно, теряя игру слов, можно перевести "Значит, еще есть Надежда", то есть "Hope". Как они все нужны нам - надежда, смирение, милость.
Н. Трауберг
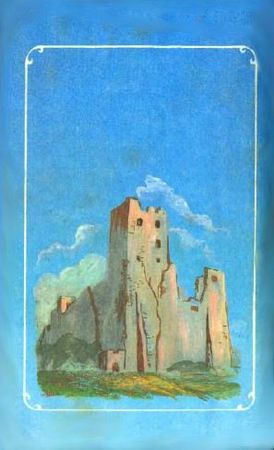

Примечания
1
Морганатический брак - брак короля с особой некоролевских кровей. - Прим. перев.
2
"…а мы мальчишками были" - слова из посвящения к роману Г. К. Честертона (1874–1936) "Человек, который был Четвергом" (1908).
3
penny - в Англии (до 1971 года) 1/12 шиллинга, мелкая монета.
4
dime - в США - 10 центов, 1/10 доллара, мелочь.
5
Нокс, Роланд (1888–1957) - английский католик, прелат, знаток детективной литературы.
6
Толкин, Джон Роналд Руэл (1892–1973) - английский филолог (тоже католик), автор прославленной саги "Властелин колец". Эта мысль - из статьи "О волшебных историях". (См. книжечку "Дерево и лист", М.: Прогресс - Гнозис, 1991).
7
"…нет места подвигу" - слова из поэмы Венедикта Ерофеева (1938–1990) "Москва - Петушки".