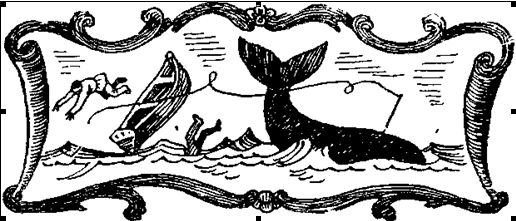
Часть первая
ЛОДЬЯ ЕРЕМЕЯ ОКЛАДНИКОВА
I. ПОШЛА НАСТЯ ПО НАПАСТЯМ
Еремей Петрович вытер рукавом рубахи пот, отставил чайный стакан и взглянул на свои толстые, похожие на луковицу часы. Было уже девять, а мужики всё ещё не управились с погрузкой, и за окном слабый ветер играл выцветшим флажком на мачте.
– Распустился народ, ползем, что нерпа, прости господи! Походили бы, как я ходил при царе Петре.
– Ну и что же, отец, выходил? – съязвила, гремя посудой, Василиса Семеновна. – Три корабля погрузили, четыре года ходили – четырех китов выходили.
– Ну уж, ты уж! – сказал в сердцах Еремей Петрович и сердито стал искать шапку.
День выдался – немного их, таких деньков, выпадает на Мезени: сине было небо, и синяя, свежая переливалась на солнце вода. Еремей Петрович шёл и щурился, Еремей Петрович Окладников, чей парусник колыхался напротив его, Еремея Петровича, дома. Да, полтора десятка, почитай, не больше, прошло с тех пор, как ходил он от казны на китовый промысел и сам запускал гарпун, а сейчас, гляди-ко, какую на прислоне – на бережку высоком – домину вывел и какие суда у него ходят, и сам он себе хозяин.
– Еремей Петровичу!..
– ...Петровичу!..
– Здравствуй, батюшка!..
– ...батюшка!..
И народ расступался перед ним, а он шел вдоль бережка, щурясь и прикидывая будущие барыши.
Солнце с утра радовало Еремея Петровича. Он был сегодня в духе, он видел сегодня только хорошее и не хотел вводить себя в грех перебранкой со своею Василисою или руганью с замешкавшимися работниками. Ведь корабли за море надо снаряжать в благодушестве, без гневливости и прискорбия. Тем более, что, когда Еремей Петрович подошел к покачивавшейся у берега лодье, все четырнадцать лодейников были на местах и ждали только его хозяйского приказа.
– Ничего не забыл, Тимофеич? – спросил Еремей Петрович и зорким оком обвел загроможденную бочками палубу.
– Все как есть, Еремия Петрович, – прохрипел в ответ Алексей Тимофеич Хилков, кормщик и староста ловецкой артели.
– Ты смотри у меня! – погрозил Еремей Петрович конопатым пальцем. – Чтобы всё как следует!
– Это уж как полагается, – сказал, виновато кашлянув в кулак, Тимофеич.
– Как полагается... Знаю я тебя!
Тимофеич поправил на голове шапку и вытер губы.
– Ну, с богом! – сказал Еремей Петрович и перекрестился.
– Пошла Настя по напастям, – вздохнул кто-то в толпе на берегу.
Багры уперлись в песчаное дно, и стоявший на берегу Еремей Петрович сразу поплыл назад. Но то плыл не Еремей Петрович, а большая лодья огромным лебедем плавно скользила посредине реки. И вот она уже за островом, и Ванюшка Хилков, Тимофеичев приемыш, поднимает парус, а Еремей Петрович всё ещё стоит на берегу и бросает в пространство зычные напутствия:
– Гляди-ко, Тимофеич, полегче у луд!
– У-у-у... – подвывает кто-то в ответ Еремею Петровичу с другого берега, а кто – не видно.
– Держи берегом, как пройдешь Поной! – не унимается Еремей Петрович.
– Ой! – дразнит его эхо.– Ой-ой!
– Да убирался бы ты домой! – крикнул ему с мачты Степан Шарапов, курчеватый парень, запевала и балагур. – Ишь, сохатый черт! Лешак!
Но Еремей Петрович не слышит. Он ещё долго стоит на высоком берегу среди всхлипывающих баб и жмущихся к ним ребятишек, и ветер треплет его вороную бороду.
Потом, убедившись, что цепким своим глазом он уже ничего не вырвет из сомкнувшегося зыбкого пространства, он поворачивается и по красной глинистой тропке начинает подниматься к дому.
II. СТУДЕНОЕ МОРЕ
Широко раскинулся холодный океан, и во все стороны разбежались по волнам его открытые дороги, – их не перенять, не унять, не затворить.
И по такой вольной, никем не заставленной дороге, по русскому Студеному морю шли и шли корабли не один уже век, норвежские, и английские, и шведские; добирались и до Новой Земли и к острогорью – к Груману, который иностранцы по-своему называли Шпицберген.
Вот и лодья Еремея Петровича, благополучно пройдя в июне 1743 года Понойские луды, черные от черных бакланов, второй уже день шла Ледовитым морем. Попутный ветер, усиливаясь с каждым часом, резво гнал её далёко от рыбачьих становищ на Коле. Скалистый берег с подводными камнями и песчаными мелями уже не всплывал как призрак позади, из-под небоската. Небольшие куски рыхлого льда временами терлись о борт. С утра, как сквозь сито, мелкими каплями сеял дождик. Паруса намокли на мачтах, и палуба пахла отсыревшим деревом, как осенью лес.
Тюлени ещё в Белом море казали над водой свои круглые головы и иногда целым стадом издали шли за лодьей, провожая промышленников в далекое плавание. Степан Шарапов от скуки палил в них дробью, и испуганные звери падали на дно камнем.
Скучно было Степану в этой мокрени и безделье. Он вчера ещё отточил два своих гарпуна, топор и короткое копьецо. Спал он сегодня до самого обеда, а сейчас, накрывшись мокрой холстиной, сидел, свеся ноги, на бочке и плевал далеко через борт в колыхавшуюся синюю воду.
Что делать в этакой синьке судну, вышедшему для китового боя? Не любит кит этой светлой сини и ищет мест потемнее да помутнее, там, где тучами плавают ракушки, медузы и всякая мелкая рыба. Кит жрет всю эту мелочь, только это он и способен проглотить, хотя сам он величины страшнющей.
А вокруг лодьи густел туман, хотя днем и ночью, во всякое время стоял здесь белый день. Сквозь пар видно было, как багровело и вспухало солнце, катясь по небесному кругу и в целые сутки не спадая за небосклон. Бесконечный этот день ел глаза Степану, и его начинала нудить тоска. Тогда он принимался горланить песню, запрокинув мокрое лицо в небо:
Уж мне надобно сходить
До зелена луга
Уж мне надобь навестить
Сердечного друга...
А за бортом по-прежнему жирно шлепало рыхлым льдом, да дождь сегодня, как и вчера, сеял сверху, точно сквозь мелкое сито.
Но вдруг что-то треснуло под самым носом лодьи. Дрожа, как испуганный конь, корабль остановился сразу, и Степан кубарем скатился со своей бочки на мокрую палубу, запутавшись в наваленных там парусах и канатах и ткнувшись лицом в засунутую меж ними запасную рею.
III. ПРЕРВАННЫЙ СОН ТИМОФЕИЧА
Ледяное царство отгородилось от человека хрустальными стенами и ледяными башнями, страшилищами морскими и лютым зверем. Но старый плаватель Алексей Тимофеич знает, что с ледяной поляной или плавучей горой надо бороться не нахрапом, а старой моряцкой сноровкой. И сноровку эту Тимофеич получил с детства, когда с отцом плавал на заморских купеческих кораблях; от отца-то он тогда и перенял знание корабельного хода.
Много понюхал потом Тимофеич моря и ветра, когда плавал на голландских кораблях и соловецких одномачтовых шнеках. От голландцев научился он хорошо распознавать направление по звездам и глушить из ведерка ром. И оттого ли, что шибко любил Тимофеич эту голландскую водку, или, скорее, от другого чего, но только не вышел он, подобно Еремею Петровичу, в хозяева, хотя борода у него из темной давно стала желтой и пошла мохнами, как шерсть у старого ошкуя.
Окладников, тот рано засел дома и, сидючи там, богател свирепо, и быстро, и густо, а Тимофеича всю вековщину носило по морям, и всё среди плавучих льдин и мокрого снега; даже до теплого моря не дошел он за век свой ни разу.
Тимофеич в этот час, прикрывшись волчьим тулупом, спал на старых мешках в мурье, когда случилась беда. Неожиданно в быстро сгустившемся тумане выросла перед самой лодьей ледяная крепость, – поди возьми её, пали в неё из пушек. Будь и тому рад, что жив остался, что не выдал Еремей Окладников, строивший свои корабли не где-нибудь, а у Баженина ещё на Вавчуге.
Тимофеичу спросонок показалось, что злобнейшие шведы снова открыли огонь по Новодвинской крепости, как при Петре, сорок лет тому назад. Косматый и неумытый выскочил он из люка и затопал по мокрому палубнику босыми ногами туда, где кричали и ругались сбежавшиеся работники, пытавшиеся баграми и дрекольем отвести судно назад, подальше от ледяного капкана.
Гора взялась невесть откуда. Она стояла перед самой лодьей, стояла и дымилась, и слышно было, как стекала с нее в море талая вода.
Такие громады встречались мореходам и в прежнее время, да и не такие только. Бывало, идет навстречу с края света целый хрустальный город с домами, зубчатыми стенами, с дозорными башнями, и словно костры зажжены там ради большого праздника, и слышен колокольный звон. Но плаватели знают, что дома стоят там без жителей и что без стрельцов там башни. Заходит в эти дворцы один лишь ошкуй, такой же медведь, как и лешак, только большой, белый и лютый. Взберется он на ледяную башню, поднимет вверх голову и долго смотрит, как вдали проходит на промысел корабль.