Деятельность русского флота регламентировалась Морским уставом 1720 г. Он подробно расписывал всю жизнь флота, в том числе обязанности командиров кораблей и эскадр. Разбирались здесь и их действия в морском бою, который строился согласно господствовавшему в то время шаблонному варианту линейной тактики. В частности, важнейшими положениями были: 1) расположение кораблей при появлении противника "…в своих местах добрым порядком, поданному им ордеру" с сохранением в последующем линии, чтобы неприятель не мот сквозь нее прорваться; 2) открытие огня по противнику только с близкого расстояния; 3) обязанность флагмана в начале боя попытаться выиграть ветер у флота противника, но при этом с сохранением "ордера баталии"; 4) запрещение кораблю покидать свое место в линии баталии без сигнала флагмана (кроме случаев тяжелого повреждения корабля) под страхом наказания командира вплоть до смертной казни; 5) запрещение стрелять в противника через свои корабли; 6) смертная казнь для командира корабля за выход из боя или бегство без разрешения; 7) разрешение покидать линию баталии для преследования неприятельских кораблей только по разрешению флагмана или в случае, когда линия противника полностью разбита.
Данные положения играли, безусловно, важную роль в бою, однако, к сожалению, в русском флоте они к 1760-м гг. практически превратились в незыблемую догму, подлежавшую безоговорочному выполнению. Во многом это объяснялось тем, что в среде русских моряков существовало серьезное увлечение английским флотом, где к середине XVIII в. догматизм в проведении регулярного морского боя также достиг своего расцвета. То, чем это обернулось для последнего и соответственно какими проблемами грозило для первых, очень хорошо видно на примере сражений Семилетней войны: у Менорки (1756 г.), при Куддалоре (1758 г.), у Негапатанама (1759 г.) и при Пондишери (1759 г.).
Из инструкции С.И. Мордвинова П.П. Андерсону по проведению "примерного морского боя" во время практического плавания
5. О баталии примерной. При благополучной погоде надлежит в силе регламента экзерциции ружьем и пушками, а притом иногда (курсив наш. - Авт.) для привычки людей, лежа в две линии, так как бы с неприятелем (курсив наш. - Авт.) производить пальбу из пушек и ружья, как в действительной баталии, и притом одной стороне, уступая, ретироваться, и потом иаки вступить в бой, а для оной пальбы в заряды пороху употреблять по малому числу, а пальбу производить на каждом судне, чтоб беспрерывна была, и люди были б действительно все в своих местах.
Отдельного упоминания требует укоренившаяся привычка собирать многочисленные консилиумы перед действиями и нежелание многих командиров рисковать, для чего часть из них не брезговала даже ложными сведениями о состоянии своих кораблей (это проявилось при походе эскадры Г.А. Спиридова и во флотилии А.Н. Сенявина).
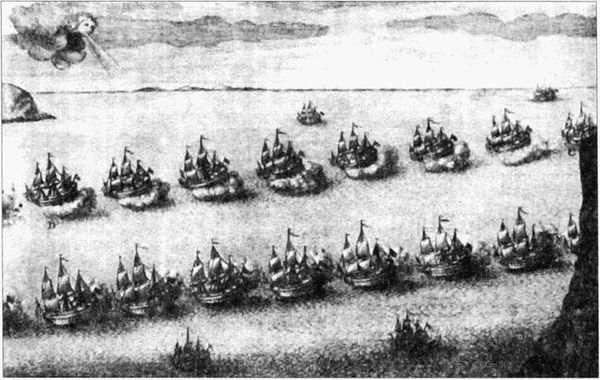
Русский посланник в Копенгагене М.М. Философов так описывал эскадру Д. Эльфинстона после ее прихода в столицу Дании (то есть в самом начале Архипелагской экспедиции): "По несчастию, наши мореплаватели в таком невежестве и в таком слабом порядке, что контр-адмирал весьма большие трудности в негодованиях, роптаниях и беспрестанных ссылках от офицеров на регламент находит, а больше всего с огорчением видит, что желание большей части офицеров к возврату, а не к продолжению экспедиции клонится, и что беспрестанно делаемые ему в том представления о неточности судов и тому подобном единственно из сего предмета происходят".
Таким образом, к началу Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. состояние офицерского корпуса в целом было не самым лучшим. Тем не менее, А.Н. Сенявину удалось добиться того, что практически все назначенные во флотилию старшие офицеры и большинство младших имели и практический мореходный, и боевой опыт. Дальнейшие же пополнения такого опыта уже не имели.
Действия флагманов и офицеров флотилии в ходе войны продемонстрировали как инициативу, находчивость и храбрость, так и пассивность ("ленность"), лживость, неумение и нежелание действовать активно. И чем более напряженной была обстановка, тем больше подтверждалось как одно, так и другое. Такие вот контрасты.
Какой же итог вышесказанному можно подвести? Как видим, к началу Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. основные проблемы русского флота (низкое качество кораблей, нехватка личного состава, проблемы готовности офицерского состава), к сожалению, сохранялись. Однако, благодаря мерам, принятым Екатериной II с самого начала ее правления, 1763–1768 гг. уже не были периодом застоя. Организационные изменения, а главное, небывалое со времен Петра I внимание ко флоту правящего монарха вкупе с резкой активизацией боевой подготовки свидетельствовали о развитии Балтийского флота. Кроме того, Екатерине II удалось даже большее - расшевелить российских моряков. Не случайно она писала И.Г. Чернышеву в Лондон через три дня после решения Высочайшего Совета об отправке экспедиции в Средиземное море: "Я так расщекотала наших морских по их ремеслу, что они огневые стали, а для чего, завтра скажу; если хочешь, сам догадайся. Я на сей час сама за них взялася, и, если Бог велит, увидишь чудеса". Кстати, отправкой кораблей в Архипелаг была решена проблема использования русского Балтийского флота в войне против Турции.