Попытки сближения
По мере развития натурфилософской мысли понятия натура и культура могли гармонизоваться, сочетаться антиномически и даже антагонистически – традиция, заложенная в Новое время и во многом обязанная Канту и Фихте, лишивших "природу всякого в себе сущего достоинства". В условиях, когда и биологические, и нравственные перспективы человечества оказались под сомнением, возникла тенденция преодолеть противостояние природы и культуры, что проявилось различно. С экспансией индустриализации развитие культуры начали представлять как саморазрастающуюся систему, уподобив ее развитию природы, в которой, в свою очередь, обнаружили механистическое начало. Г. Гельмгольц провозгласил, что "конечной целью естествознания является отыскание всех движений, лежащих в основе изменений и их двигателей, следовательно, сведение себя к механике" (1869). Поэты также оказались склонны к подобным представлениям. М. Метерлинк полагал, что цветы "исполнены гордого притязания захватить и покорить поверхность земного шара, умножая до бесконечности представляемую ими форму бытия… Поэтому большинство растений прибегает к хитростям, комбинациям, к устройству снарядов и силков, которые, в отношении механики, баллистики, воздухоплавания и наблюдений над насекомыми, часто превосходят изобретения и знания людей". Вместе с тем развитие индустрии он видел как воспроизведение эволюции растений ("Разум цветов". 1907).
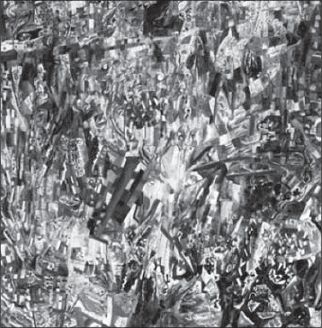
Павел Филонов. Формула весны. 1920
В 1910 г. C. Франк констатировал, что готовится "крупнейший переворот. Вся область органической и психической природы изъемлется из сферы механического мировоззрения". Он признавал, что в природе "имеют место живые, разумные, целеустремленные индивидуальные силы", и это делает "невозможным полагать между природой и культурой непроходимую пропасть", отрицать "соучастие обоих начал в каждой точке бытия". Подобные представления проецировались на художественное творчество. Архитекторы авангарда рассматривали архитектуру и урбанистику как "живую цепь организмов", социально функционирующие "органы" [ср. ренессансный подход (с. 135). Идея единства культуры и природы легла в основу русского космизма, проявившись особенно в теории ноосферы, согласно которой, человеческая мысль – это геологическая сила, сложившаяся "стихийно, как природное явление, в последние несколько десятков тысяч лет". Это прямо перекликается со словами Николая Кузанского, который рассматривал разум в качестве божественной космической силы: "Человеческий ум… участвует в плодородии творящей природы".
Симптоматична постановка исследователями вопроса о том, "принадлежит ли искусство к природе или к культуре или же в какой мере одной и другой?" В поисках ответа на него значимы такие аргументы, как роль природных детерминант в формировании личности (что подтверждается исследованиями нейрофизиологов), преодоление дуализма в трактовке познавательного акта (не последовательность, а одновременность физического видения и осознания). Актуализируя мысль Леонардо да Винчи, что "живопись не требует перевода на разные языки… как и произведение природы" ("Парагоне"), Э. Гомбрих трактовал образы живописи как естественные, а не искусственные знаки. Важны идеи о биологических истоках культурных феноменов. Еще в XVIII в., в частности в "Энциклопедии", говорилось, что это природа научила "людей искусству сохранять свои мысли с помощью различных знаков".
Новые "науки о сложных системах", включающие фрактальную геометрию, нелинейную динамику, неокосмологию, теорию самоорганизации и другие, изменили мировоззренческую перспективу. От механистического взгляда на Вселенную научная мысль пришла "к пониманию того, что на всех уровнях – от атома до галактики – Вселенная находится в процессе самоорганизации" и саморазвития. Н.В. Тимофеев-Ресовский выстроил концепцию коэволюции природы и общества (1968). К числу явлений, объединяющих природу и культуру, относится так же способность той и другой к метаморфозам, хотя, как в каждом другом случае, их проявления в этих двух сферах различны – вопрос, заслуживающий дальнейшей разработки. Примером совместного творения метаморфоз являются все виды современных искусственных мутаций.
Теория интеракции Ю. Хабермаса предполагает необходимость диалогических, субъектных отношений не только в социальной сфере, но и во взаимодействиях с природой – освобождение ее посредством технологизации от внешнего принуждения, а также от репрессивности, свойственной сущности человека. В 1970-е гг. возник "технологический детерминизм", рассматривающий развитие техники как самовоспроизводящийся процесс. "Философия техники" ввела эту проблему в социокультурный, политический, экономический и экологический контекст. Осмысление технологизации не как детерминирующего, а как необходимого, но требующего обуздания явления открывает перспективу для попыток избежать эсхатологического исхода отношений природы и культуры.
"Настал общий пир Земного шара… времена несовершенства и предрассудков давно уже прошли вместе с болезнями человеческими… никто не удивлялся прекрасному пиру природы". Эти события, о которых писал В.Ф. Одоевский в своей утопии (c. 160), он отнес к 4338 году.
Глава 3
Ландшафты природы и культуры
Антропность и антропоморфизация. – Культурный ландшафт и культура как ландшафт. – Ландшафт в контексте эпох. От ландшафта к пейзажу. – Четвертое измерение. Руины. – Движение. – Взаимосвязи географии и истории культуры