В Захарове, расположенном рядом с принадлежавшим некогда Борису Годунову селу Большие Вяземы (чрезвычайно богатым историческими воспоминаниями; здесь по пути в Москву останавливалась Марина Мнишек), у Пушкина впервые мог пробудиться интерес (хотя бы пока и смутный) к прошлому. Отголоски старины донеслись до него уже в детстве. Неподалеку от Захарова возвышается курган, вероятно насыпанный в эпоху Древней Руси, когда нынешнее Подмосковье населяли летописные вятичи. Мальчик Пушкин не мог не знать его, но трудно сказать, произвел ли этот курган тогда на него впечатление. С уверенностью можно сказать лишь то, что места его детских игр ассоциировались у него с кровавыми буднями Смутного времени. В "Борисе Годунове" в сцене "Корчма на литовской границе" звучат известные названия. Хозяйка объясняет Григорию дорогу за рубеж Руси: "Прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево". Действительно, рядом с Захаровом есть село Хлюпино. Интересно отметить, что эти запомнившиеся Пушкину названия вновь повторяются в "Барышне-крестьянке".
В пушкинское время владельцем Больших Вязем был московский генерал-губернатор князь Д. В. Голицын. Он несколько раз косвенно соприкоснулся с судьбой великого поэта. Начиная с 1826 года Пушкин часто бывал в Москве и посещал блестящие "голицынские балы", о которых даже не питавший любви к России де Кюстин обмолвился, что они - то ли сказочный Багдад из "Тысячи и одной ночи", то ли еще более сказочный Вавилон эпохи Семирамиды. Юная Н. Н. Гончарова была одним из украшений этих празднеств.
На одном из балов у Д. В. Голицына в начале 1830 года знакомый Пушкина И. Д. Лужин (офицер из близкого окружения Д. В. Голицына, впоследствии московский обер-полицмейстер. - В. Н.) в беседе с матерью первой московской красавицы обмолвился несколькими словами об отсутствующем поэте. В ответ мать и дочь передали Пушкину поклон. Когда последний узнал об этом, он понял произошедшее как знак, что его искания начинают восприниматься благосклонно. Действительно, по приезде в Москву он получил долгожданное согласие после очередного сватовства.
В июле 1830 года, накануне женитьбы, когда Пушкин мысленно подводил итоги первой половины своей жизни, его потянуло в Захарово. По словам матери, он совершил "сентиментальное путешествие". Берг записал воспоминания Марьи: "Приезжал он ко мне сам перед тем, как вздумал жениться. Я, говорит, Марья, невесту сосватал, жениться хочу… И приехал это не прямо по большой дороге, а задами: другому бы оттуда не приехать… а он знал. (Вероятно, Пушкин приехал кратким путем из Больших Вязем. - В. Н.) Я… сижу, - продолжает Марья, - смотрю: тройка! Я эдак… А он уже ко мне-то в избу-то и бежит… "Чем, мол, батюшка, угощать-то я стану? Сем, мол, яишенку сделаю". - "Ну, сделай, Марья!" - Пока он пошел по саду, я ему яишенку-то и сварила; он пришел, покушал…". Вряд ли приготовление яичницы заняло более четверти часа. Пушкину же этого времени вполне хватило, чтобы обежать усадьбу. Он заметно погрустнел. "Все наше решилось, - сказал он Марье, - все поломали, все заросло".
Больше приехать в Захарово Пушкину уже не довелось.
Михайловское
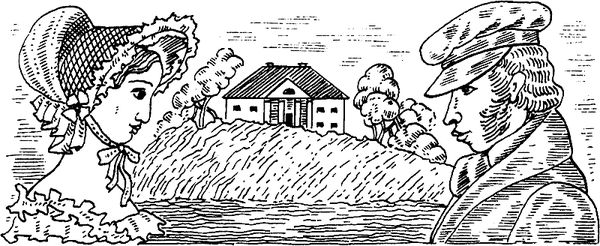
Ныне в России нет города Воронина. В свое время он был одной из пограничных крепостей на литовских рубежах, но благодаря выгодному расположению на реке Сороти стал обширен и многолюден. Однако Ливонская война поставила крест на процветании Воронина; его разорили войска Стефана Батория, а затем и фактически стерли с лица земли. Но каков был этот город, можно судить по тому, что в нем было целых шесть монастырей, владевших большими "губами" (волостями). Одному из них - Михайловскому - принадлежала Михайловская губа, центром которой было село Зуево. В дальнейшем старое название забылось, и село стало просто Михайловским. После исчезновения Воронича все монастырские земли в начале XVII века отошли в казну.
В 1742 году Михайловская губа была пожалована императрицей Елизаветой Петровной "арапу Петра Великого" А. П. Ганнибалу - крестнику и любимцу царя. Затем владельцем села стал третий сын Осип Абрамович. Пылкий и необузданный, он вскоре после свадьбы оставил молодую жену с малолетней дочерью (будущей матерью поэта) и, не удосужившись оформить развод, обвенчался с другой женщиной. Хотя двоеженство считалось тяжким преступлением, но дворянство того времени привыкло смотреть свысока на закон, полагая, что родовитость и деньги решат все проблемы. Но в данном случае нетерпеливый муж просчитался. Его первая жена оказалась женщиной умной и энергичной. Она добилась признания нового брака супруга недействительным и закрепила за своей дочерью права единственной наследницы. О. А. Ганнибал умер в 1806 году. Пушкин его не знал, хотя в возрасте пяти месяцев его привезли в "псковскую глушь" для того, чтобы показать деду.
Правда, нельзя сказать, чтобы семейство Пушкиных, в котором "бабушка Ганнибал" играла первенствую роль, не поддерживало связи со своим непутевым патриархом. Наоборот, свидетельством противного является рапорт, поданный начальству С. Л. Пушкиным, служившим в Московском коммисариатском депо:
"Тесть мой, Иосиф Абрамович Ганнибал, живущий в дальней своей деревне, не имея никого родных, кроме меня, и в совершенном одиночестве, опасно болен. Он не в силах будучи писать ко мне, просил одного из своих соседей, уведомить меня о его положении и желании его меня увидеть".
Просьба была уважена; С. Л. Пушкин был командирован в Псковскую губернию для закупок холстов и смог увидеться с О. А. Ганнибалом незадолго до его смерти.
Известие о кончине деда не могло оставить гениального внука, в котором уже проснулся пытливый интерес к тайнам бытия, равнодушным. В программе своих автобиографических записок он упоминает об отъезде матери в деревню в связи с этими событиями. По словам Пушкина, дед умер "от следствий невоздержанной жизни". Владелицей Михайловского стала "бабушка Ганнибал". Она умерла также в Михайловском в 1818 году. Смерть как бы разрешила все проблемы и соединила супругов, почти тридцать лет живших раздельно. Их могилы оказались рядом на кладбище Святогорского монастыря. Михайловское унаследовала мать поэта Н. О. Пушкина.
Понятно, что младенческая поездка в Михайловское никак не отразилась на духовной жизни Пушкина. Можно сказать, что по-настоящему он приехал в это сельцо только после окончания Лицея в июле 1817 года. Его прежде всего заинтересовали родственники Ганнибалы. Почти сразу же после приезда он наносит визит своему двоюродному деду Петру Абрамовичу Ганнибалу, унаследовавшему главное имение отца - арапа Петра Великого - Петровское и жившему в родовом доме. Об этом посещении сохранилась красноречивая запись самого поэта: "…попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился - и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда. Принесли… кушанья поставили…" Следует отметить, что одобрение П. А. Ганнибала не в последнюю очередь было вызвано тем, что поднесенная водка была его собственного изготовления.
Вообще клан Ганнибалов славился своим беззаботным нравом, добротою, хлебосольством и порой доходящим до навязчивости гостеприимством. У соседей все это получило название ганнибаловщины. Не обошлось и без курьезного случая, о котором рассказывает (со слов сестры поэта) его племянник Л. Н. Павлищев. Пушкин вообразил себя влюбленным в некую девицу Лошакову, отнюдь красотой не блиставшую. Его дядя Павел Петрович Ганнибал в одной из фигур котильона увел у Пушкина его кратковременную пассию, и поэт не нашел ничего лучшего, как вызвать родича на дуэль. Правда, через десять минут ссора кончилась мировой, и за последовавшей пирушкой гости распевали тут же сочиненный одним из Ганнибалов экспромт:
Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала;
Но, ей-Богу, Ганнибал
Ссорой не подгадил бал.
В первый приезд Пушкин пробыл в Михайловском месяц. Тогда же он свел знакомство с соседями в усадьбе Тригорское (в двух верстах от Михайловского) Осиповыми-Вульф; это семейство (мать и дочери) сыграло большую роль в его жизни. Пушкин сразу же понял, что обрел здесь близких по душевному складу людей. Именно к обитателям Тригорского обращено прощальное стихотворение Пушкина (единственное написанное им в те дни):
Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!)
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы
Веселья, граций и ума.