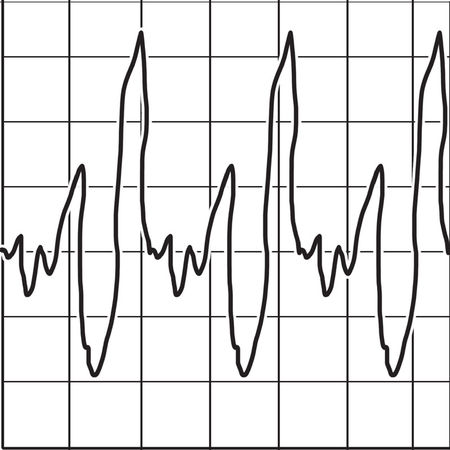
Хуже всего пришлось развивающимся странам. Их традиционно относят к разряду рисковых. В случае кризиса капитал "убегает" с развивающихся рынков, ищет "тихие гавани". Так произошло и в Украине. Интенсивный экономический рост 2000-х в Украине позволял сквозь пальцы смотреть на структурные проблемы экономики. В страну достаточно активно приходил иностранный капитал, правда, носил он преимущественно краткосрочный спекулятивный характер. Этот капитал начал "убегать" с появлением проблем на мировых рынках, что привело к значительной девальвации национальной валюты, экстренным кредитам МВФ во избежание дефолта. Вскрылась зависимость экономики от внешней конъюнктуры – с падением цен на чёрные металлы исчез главный драйвер экономики. Экономическое падение превысило 14 % за год.
Многие исследователи бились над интеллектуальной задачей определения точных причин кризиса, но в итоге большинство из них пришли к выводу, что истинные истоки находятся в нашей человеческой природе.
Экономика всё ещё остаётся сложной и непознанной до конца отраслью человеческих знаний.
Одна поучительная история об экономике
Пять семей, устав от ритма современной жизни, решили убежать от экономики с её несправедливостью и уехали из мегаполиса на незаселённый никем остров на Днепре. Им казалось, что они взяли всё необходимое, а дальше уже как-нибудь разберутся без денег, торговли, современных технологий.
Стоит отметить, что они были на редкость приспособлены для жизни вдали от цивилизации, такое теперь редко встретишь. Они сумели построить себе дома из дерева и даже придумать способ их отапливания зимой.
– Что нужно человеку, – сказал глава первого семейства. – Крыша над головой и пища, которую мы сами тут будем выращивать.
Надо сказать, что они действительно взяли с собой на остров домашних животных и множество разных семян и картошки, солнечные батареи и другие достижения цивилизации, но договорились оградить себя хотя бы от новых.
– Мир развивается экспоненциально, – сказал глава второго семейства. – Это значит, что ты будешь всё время спешить за ним, за этим калейдоскопом картинок потребительского общества. Но будешь вечно отставать и чувствовать себя несчастным.
– Папа, а что такое экспоненциально? – спросила девочка.
Отец погладил её по голове и произнёс:
– Вначале медленно, потом быстрее, потом очень быстро, а дальше всё быстрее и быстрее. А нам некуда спешить, у нас здесь свои рассветы и закаты.
Жизнь их текла поначалу неспешно, но чем дальше, тем больше возникало вопросов. Семьи вначале старались обеспечить себя каждая полностью, чтобы быть абсолютно независимыми. Но на участке первой семьи была хорошая трава, и коровы и козы давали больше молока. На участке второй семьи отлично рос картофель. Мужчины третьей семьи строили самые надёжные дома. А женщины четвёртой быстро и качественно шили одежду. В пятой семье устраивали отличные совместные вечера и могли зарядить других энергией.
Вскоре стало ясно, что, сосредоточившись на своих сильных качествах, они получат лучший общий результат.
– Да, но как мы будем обмениваться излишками? – спросили в третьей семье.
– Нас не так много, справимся, это не торговля, а просто договорённость, что на что и в какой пропорции меняется, – ответили ей.
Чтобы не было торговли, они установили правила обмена между собой картошкой, мясом, молоком и затраченными часами труда.
Но получилось так, что в разных семьях работали по-разному, кто-то с удовольствием отдавался работе, а кто-то валялся на берегу реки и любовался закатом. В итоге и уровень жизни семей стал отличаться.
– Послушайте, – негодовал представитель одного из семейств. – Разве нашей целью было работать больше и накапливать материальные блага.
– Нет, – парировал сосед. – Но мы просто хотим жить с минимальным комфортом, как нам нравится, наконец-то никто не мешает нам.
Отношения между семьями стали прохладнее, ведь уровень их жизни стал отличаться.
Вскоре возник ещё один вызов.
– Послушайте, – сказал представитель одной из семей. – Я вчера целый день провозился, вычищая дорожку к реке, которой пользуемся мы все. Как это мне зачтётся?
– А я, а я… – каждый стал вспоминать, что он делал для общего блага, не получая ничего взамен.
В конце концов они решили, что общих дел так много, что один день в неделю каждому нужно уделять им. Всё бы хорошо, но выяснилось, что общую работу обычно выполняют не так активно и качественно, как работу для себя.
Шли годы, и некоторые члены семейства становились старше. Появлялись дети, которых было удобно собирать вместе, но для этого нужен был кто-то, занимавшийся только ими.
Семьи договорились, что будут 20 % того, что получают, отдавать на общие нужды – содержание стариков, оплату тем, кто заботится о детях.
По мере того, как приходилось отдавать больше на общие нужды, у некоторых снижалась мотивация, они начинали работать хуже, поэтому 20 % стало не хватать. Процент решили увеличить до 25, но мотивация и производительность снова снизились. Наконец, на тридцати процентах ситуация стала таковой, что собранных средств хватало, но уровень жизни у всех упал.
– Один день в неделю отдаёшь общим делам, да ещё и треть произведенного ни за что у тебя забирают, – возмущался представитель одной из семей. – А вот не буду я ничего отдавать! И работать на других не буду!
После этого пришлось вводить новые общественные должности – инспектора по сбору средств на общественные нужды и блюстителя правопорядка. Правда, в результате этих мер уровень сборов пришлось поднять до 35 %, ведь и новым общественным служащим нужно было отчислять часть произведенного продукта.
Все семьи знали, что важно вырастить урожай, чтобы его хватило на зиму. Но как-то случилось, что у одной из семей урожай не удался, а у другой, напротив, был излишек.
– Поделись со мной урожаем, – попросил один.
– Если я отдам тебе картофель, то не смогу его посадить весной. Поэтому я теряю не только то, что дам тебе, но и будущую выгоду. Думаю, будет справедливо, если ты отдашь мне не только в том количестве, сколько я тебе дам, но и дополнительно половину этого.
– Но ты же знаешь, что у меня плохо растёт картофель. Я отдам тебе чем-то другим.
– Хорошо, но давай мы приравняем тот картофель, который я даю тебе, к вот этим 10 камням, чтобы запомнить. А отдать ты мне должен столько, сколько соответствует 15 камням.
– Получается, что всё, что я могу сделать, нам нужно перевести в какое-то количество камней?
– Именно! Сейчас этим и займёмся. Будет очень удобно, потому что мы выразим всё, что у нас есть, даже коров, коз и работы по присмотру за детьми в количестве камней.
Поскольку определённых камней на острове было немного, то со временем именно они стали выполнять такие задачи, как отложенный спрос, передача продукции в пользование за вознаграждение. Одному из жителей поручили раздать камни в равном количестве всем семьям, а затем камни стали перемещаться между семьями. Так одолженный мешок картошки был обменян на 15 камней.
Через год оказалось, что у одной семьи все камни закончились.
– Теперь у нас нет ни продуктов на зиму, ни камней, что же делать?
– И у меня проблема, я вырастил картошки больше, чем нам надо. Если я не передам её тебе, то она сгниёт. Но я не могу дать тебе её без камней.
Они промучились какое-то время, а потом представитель "богатого" семейства произнёс:
– Эврика! Мы запишем на бумаге, что ты мне должен камни. Если ты будешь работать прилежно, то сможешь отдать мне их взамен бумаги.
Так они и решили. Похожая ситуация сложилась в других семьях, так и появились расписки о задолженностях.
Поскольку их владельцы сомневались, что получат свои камни, то стали по возможности рассчитываться с другими не камнями, а расписками, пусть даже со скидкой. Со временем это вошло в привычку. Камни просто лежали без дела, а рассчитывались все расписками на камни.
Старики вздыхали и говорили:
– Куда катится мир, вот камни были настоящей ценностью, не то, что эти бумажки.
В тот момент, когда у одной семьи сосредоточились почти все расписки, остальные договорились, восстали против неё и отобрали эти расписки!
Дошло до крови, но в какой-то момент удалось остановиться, избежав наихудшего.
– Они получили их обманом, они всегда обманывали нас! – кричали четыре семьи, потрясая расписками и разрывая их на куски. – Теперь всё будет иначе.
Они решили обойтись без расписок, а сформировать новые принципы – теперь все должны были по возможности работать на общее благо, а делиться произведенное должно было по справедливости, то есть поровну.
Теперь люди успокоились – никто не мог выделяться. Те, кто работал до этого хорошо, перестали это делать, ведь при всеобщем равенстве в этом было немного смысла. Поначалу всё было неплохо – появилось больше свободного времени, стало меньше конфликтов. Но позже, то тут, то там что-то стало ломаться, приходить в негодность. Люди старались не замечать этих проблем. Периодически они всё же собирались и договаривались взяться за дело. Но этот рабочий пыл был недолгим.
Время от времени кто-то пытался утаить свои настоящие возможности – прятал то молоко, то хлеб, то одежду, которую вязали женщины. Поэтому большие ресурсы тратились на надсмотрщиков и тайных агентов. Провинившегося наказывали временным изгнанием на несколько дней.